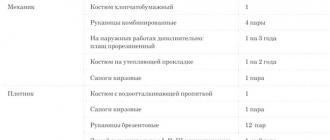Федор Достоевский: жизнь, творчество, любовь. Краткая биография
Все творчество Достоевского насыщено жгучей и страстной любовью. Все происходит в атмосфере напряженной страсти. Он открывает в русской стихии начало страстное и сладострастное. Ничего подобного нет у других русских писателей. Та народная стихия, которая раскрылась в нашем хлыстовстве, обнаружена Достоевским и в нашем интеллигентном слое. Это – дионисическая стихия. Любовь у Достоевского исключительно дионисична. Она терзает человека. Путь человека у Достоевского есть путь страдания. Любовь у него – вулканические извержения, динамитные взрывы страстной природы человека. Эта любовь не знает закона и не знает формы. В ней выявляется глубина человеческой природы. В ней все та же страстная динамичность, как и во всем у Достоевского. Это – огонь поедающий и огненное движение. Потом огонь этот превращается в ледяной холод. Иногда любящий представляется нам потухшим вулканом. Русская литература не знает таких прекрасных образов любви, как литература Западной Европы. У нас нет ничего подобного любви трубадуров, любви Тристана и Изольды, Данте и Беатриче, Ромео и Джульеты. Любовь мужчины и женщины, любовный культ женщины – прекрасный цветок христианской культуры Европы. Мы не пережили рыцарства, у нас не было трубадуров. В этом ущербность нашего духа. В русской любви есть что-то тяжелое и мучительное, непросветленное и часто уродливое. У нас не было настоящего романтизма в любви. Романтизм – явление Западной Европы. Любви принадлежит огромное место в творчестве Достоевского. Но это не самостоятельное место. Любовь не самоценна, она не имеет своего образа, она есть лишь раскрытие трагического пути человека, есть испытание человеческой свободы. Тут любви принадлежит совсем иное место, чем у Пушкина любви Татьяны или у Толстого любви Анны Карениной. Тут совсем иное положение занимает женственное начало. Женщине не принадлежит в творчестве Достоевского самостоятельного места. Антропология Достоевского – исключительно мужская антропология. Мы увидим, что женщина интересует Достоевского исключительно как момент в судьбе мужчины, в пути человека. Человеческая душа есть прежде всего мужской дух. Женственное начало есть лишь внутренняя тема в трагедии мужского духа, внутренний соблазн. Какие образы любви оставил нам Достоевский? Любовь Мышкина и Рогожина к Настасье Филипповне, любовь Мити Карамазова к Грушеньке и Версилова к Екатерине Николаевне, любовь Ставрогина ко многим женщинам. Нигде нет прекрасного образа любви, нигде нет женского образа, который имел бы самостоятельное значение. Всегда мучит трагическая судьба мужчины. Женщина есть лишь внутренняя мужская трагедия.
Достоевский раскрывает безвыходный трагизм любви, неосуществимость любви, нереализуемость ее на путях жизнеустроения. Так же убийственна у него любовь, как у Тютчева:
О, как убийственно мы любим,
Как в бурной слепоте страстей
Мы то всего вернее губим,
Что сердцу нашему милей.
У Достоевского нет ни прелести любви, ни благообразия жизни семейной. Он берет человека в тот момент его судьбы, когда пошатнулись уже все устои жизни. Он не раскрывает нам высшей любви, которая ведет к подлинному соединению и слиянию. Тайна брачная не осуществляется. Любовь есть исключительно трагедия человека, раздвоение человека. Любовь есть начало в высшей степени динамическое, накаляющее всю атмосферу и вызывающее вихри, но любовь не есть достижение, в ней ничего не достигается. Она влечет к гибели. Достоевский раскрывает любовь как проявление человеческого своеволия. Она раскалывает и раздваивает человеческую природу. Поэтому она никогда не есть соединение и к соединению не приводит. В творчестве Достоевского есть лишь одна тема – трагическая судьба человека, судьба свободы человека. Любовь лишь один из моментов в этой судьбе. Но судьба человека есть лишь судьба Раскольникова, Ставрогина, Кириллова, Мышкина, Версилова, Ивана, Дмитрия и Алеши Карамазовых. Это не есть судьба Настасьи Филипповны, Аглаи, Лизы, Елизаветы Николаевны, Грушеньки и Екатерины Николаевны. Это – мужская судьба. Женщина есть лишь встретившаяся в этой судьбе трудность, она не сама по себе интересует Достоевского, а лишь как внутреннее явление мужской судьбы. У Достоевского нельзя найти культа вечной женственности. И то особенное отношение, которое у него было к матери – сырой земле и к Богородице, не связано никак с его женскими образами и с изображением любви. Лишь в образе Хромоножки как будто что-то приоткрылось. Но и это обычно слишком преувеличивают. Достоевского интересует Ставрогин, а не Хромоножка. Она была лишь его судьбой. В своем творчестве Достоевский раскрывает трагический путь своего мужского духа, который был для него путем человека. Женщина играла большую роль на этом пути. Но женщина есть лишь соблазн и страсть мужчины. У Достоевского нет ничего подобного проникновению Толстого в женские образы Анны Карениной или Наташи. Анна Каренина не только имеет самостоятельную жизнь, но она главное центральное лицо. Настасья Филипповна и Грушенька – лишь стихии, в которые погружены судьбы мужчин, они не имеют своей собственной судьбы. Судьба Мышкина и Рогожина интересует Достоевского, а Настасья Филипповна есть то, в чем осуществляется эта судьба. Он не способен жить с Настасьей Филипповной так, как Толстой жил с Анной Карениной. Женская инфернальность интересует Достоевского лишь как стихия, пробуждающая мужскую страсть и раздваивающая личность мужчины. Мужчина оказывается замкнутым в себе, он не выходит из себя в другое, женское бытие. Женщина есть лишь сведение мужских счетов с самим собою, лишь решение своей мужской, человеческой темы. Судьба человека для Достоевского есть судьба личности, личного начала в человеке. Но личное начало есть по преимуществу мужское начало. Поэтому у Достоевского такой исключительный интерес к мужской душе и незначительный интерес к душе женской. По истории женской души нельзя проследить судьбы человеческой личности. И поэтому женщина может быть интересна лишь как стихия и атмосфера, в которой протекает судьба мужчины, судьба личности по преимуществу. Мужчина у Достоевского приковывается к женщине страстью. Но это остается как бы его делом с самим собой, со своей страстной природой. Он никогда не соединяется с женщиной. И потому, быть может, так истерична женская природа у Достоевского, потому так надрывна, что она обречена на несоединенность с природой мужской. Достоевский утверждает безысходный трагизм любви. Он так и не раскрывает нам андрогинной человеческой природы. Человек остается у него трагически раздвоенным мужчиной, не имеющим своей Софии, своей Девы. Достоевский недостаточно сознавал, что природа человека – андрогинна, как то открывалось великим мистикам, Якову Бёме и другим. И глубока у него была только постановка темы, что женщина – судьба человека, Но он сам оставался разъединенным с женской природой и познал до глубины лишь раздвоение. Человек для него – мужчина, а не андрогин.
В трагедии мужского духа женщина означает раздвоение. Половая любовь, страсть говорит об утере целостности человеческой природы. Поэтому страсть не целомудренна. Целомудрие есть целостность. Разврат есть разорванность. Достоевский проводит человека через раздвоение во всем. И любовь раздвоена у него на два начала. И любят у него обычно двух. Двойная любовь и двоение в любви изображены им с необычайной силой. Он раскрывает в любви два начала, две стихии, две бездны, в которые проваливается человек, – бездну сладострастия и бездну сострадания. Любовь всегда у Достоевского доходит до предела, он исходит от исступленного сладострастия и от исступленного сострадания. Достоевского только и интересовало выявление этих предельных стихий любви. Его не интересовала мера в любви. Он ведь производил эксперименты над человеческой природой и хотел исследовать глубину ее, поставив человека в исключительные условия. Любовь всегда двоится у Достоевского, предмет любви двоится. Нет единой, целостной любви. Так и должно быть в путях своеволия человека. В этом двоении происходит существенное повреждение личности. Человеческой личности угрожает потерять целостность своего образа. И любовь-сладострастие и любовь-сострадание, не знающие меры, ничему высшему не подчиненные, одинаково сжигают, испепеляют человека. В глубине самого сострадания Достоевский открывает своеобразное сладострастие. Страсть нецельного, раздвоенного человека переходит в исступление, и раздвоенность, разорванность этим не преодолевается. Он остается в самом себе, в своем раздвоении. Он вносит в любовь это свое раздвоение. Любовь влечет к гибели на противоположных своих полюсах. Соединение, целостность, победа над раздвоением никогда не достигается. Ни беспредельное сладострастие, ни беспредельное сострадание не соединяет с любимым. Человек остается одиноким, предоставленным себе в своих полярных страстях, он лишь истощает свои силы. Любовь у Достоевского почти всегда демонична, она порождает беснование, накаляет окружающую атмосферу до белого каления. Не только любящие начинают сходить с ума, но начинают сходить с ума и все окружающие. Исступленная любовь Версилова к Екатерине Николаевне создает атмосферу безумия, она всех держит в величайшем напряжении. Токи любви, соединяющие Мышкина, Рогожина, Настасью Филипповну и Аглаю, накаляют всю атмосферу. Любовь Ставрогина и Лизы порождает бесовские вихри. Любовь Мити Карамазова, Ивана, Грушеньки и Екатерины Ивановны влечет к преступлению, сводит с ума. И никогда и нигде любовь не находит себе успокоения, не ведет к радости соединения. Нет просвета любви. Повсюду раскрывается неблагополучие в любви, темное и истребляющее начало, мучительность любви. Любовь не преодолевает раздвоения, а еще более его углубляет. Две женщины, как две страдающие стихии, всегда ведут беспощадную борьбу из-за любви, истребляют себя и других. Так сталкиваются Настасья Филипповна и Аглая в «Идиоте», Грушенька и Екатерина Ивановна в «Братьях Карамазовых». Есть что-то не знающее пощады в соревновании и борьбе этих женщин. Та же атмосфера соревнования и борьбы женских страстей есть и в «Бесах», и в «Подростке», хотя и в менее выпуклой форме. Мужская природа раздвоена. Женская природа не просветлена, в ней есть притягивающая бездна, но никогда нет ни образа благословенной матери, ни образа благословенной девы. Вина тут лежит на мужском начале. Оно оторвалось от начала женского, от матери-земли, от своей девственности, т. е. своего целомудрия и цельности, и пошло путем блужданий и двоений. Мужское начало оказывается бессильным перед женским началом. Ставрогин бессилен перед Лизой и Хромоножкой, Версилов бессилен перед Екатериной Николаевной, Мышкин бессилен перед Настасьей Филипповной и Аглаей, Митя Карамазов бессилен перед Грушенькой и Екатериной Ивановной. Мужчины и женщины остаются трагически разделенными и мучают друг друга. Мужчина бессилен овладеть женщиной, он не принимает женской природы внутрь себя и не проникает в нее, он переживает ее как тему своего собственного раздвоения.
Тема двойной любви занимает большое место в романах Достоевского. Образ двойной любви особенно интересен в «Идиоте». Мышкин любит и Настасью Филипповну и Аглаю. Мышкин – чистый человек, в нем есть ангелическая природа. Он свободен от темной стихии сладострастия. Но и его любовь – больная, раздвоенная, безысходно-трагическая. И для него двоится предмет любви. И это двоение есть лишь столкновение двух начал в нем самом. Он бессилен соединиться и с Аглаей, и с Настасьей Филипповной, он по природе своей не способен к браку, к брачной любви. Образ Аглаи пленяет его, и он готов быть ее верным рыцарем. Но если другие герои Достоевского страдают от избытка сладострастия, то он страдает от его отсутствия. У него нет и здорового сладострастия. Его любовь бесплотна и бескровна. Но с тем большей силой выражается у него другой полюс любви, и перед ним разверзается другая ее бездна. Он любит Настасью Филипповну жалостью, состраданием, и сострадание его беспредельно. Есть что-то испепеляющее в этом сострадании. В сострадании своем он проявляет своеволие, он переходит границы дозволенного. Бездна сострадания поглощает и губит его. Он хотел бы перенести в вечную божественную жизнь то надрывное сострадание, которое порождено условиями относительной земной жизни. Он хочет Богу навязать свое беспредельное сострадание к Настасье Филипповне. Он забывает во имя этого сострадания обязанности по отношению к собственной личности. В сострадании его нет целостности духа, он ослаблен раздвоением, так как он любит и Аглаю другой любовью. Достоевский показывает, как в чистом, ангелоподобном существе раскрывается больная любовь, несущая гибель, а не спасение. В любви Мышкина нет благодатной устремленности к единому, целостному предмету любви, к полному соединению. Такое беспредельное, истребляющее сострадание только и возможно к существу, с которым никогда не будешь соединен. Природа Мышкина тоже дионисическая природа, но это своеобразный, тихий, христианский дионисизм. Мышкин все время пребывает в тихом экстазе, каком-то ангелическом исступлении. И, быть может, все несчастье Мышкина в том, что он слишком был подобен ангелу и недостаточно был человеком, не до конца человеком. Поэтому образ Мышкина стоит в стороне от тех образов Достоевского, в которых он изображает судьбу человека. В Алеше попытался он дать положительный образ человека, которому ничто человеческое не чуждо, которому присуща вся страстная природа человека и который преодолевает раздвоение, выходит к свету. Я не думаю, чтобы образ этот особенно удался Достоевскому. Но на ангелоподобном образе Мышкина, которому многое человеческое было чуждо, нельзя было остановиться как на выходе из трагедии человека. Трагедия любви у Мышкина переносится в вечность, и ангельская его природа есть один из источников увековечения этой трагедии любви. Достоевский наделяет Мышкина удивительным даром прозрения. Он прозревает судьбу всех окружающих людей, прозревает самую глубину любимых им женщин. У него сближаются восприятия эмпирического мира с восприятиями мира иного. Но этот дар прозрения есть единственный дар Мышкина в отношении к женской природе. Овладеть этой природой и соединиться с ней он бессилен. Замечательно, что у Достоевского всюду женщины вызывают сладострастие или жалость, иногда одни и те же женщины у разных людей вызывают эти разные отношения. Настасья Филипповна у Мышкина вызывает бесконечное сострадание, у Рогожина – бесконечное сладострастие. Соня Мармеладова, мать подростка вызывают жалость. Грушенька вызывает к себе сладострастное отношение. Сладострастие есть в отношении Версилова к Екатерине Николаевне, и он же жалостью любит свою жену; то же сладострастие есть в отношении Ставрогина к Лизе, но в угасающей и задавленной форме. Но ни исключительная власть сладострастия, ни исключительная власть сострадания не соединяет с предметом любви. Тайна брачной любви не есть ни исключительное сладострастие, ни исключительное сострадание, хотя оба начала привходят в брачную любовь. Но Достоевский не знает этой брачной любви – тайны соединения двух душ в единую душу и двух плотей в единую плоть. Поэтому любовь его изначально осуждена на гибель.
Самое замечательное изображение любви дано Достоевским в «Подростке», в образе любви Версилова к Екатерине Николаевне. Любовь Версилова связана с раздвоением его личности. У него тоже двоящаяся любовь, любовь-страсть к Екатерине Николаевне и любовь-жалость к матери подростка, его законной жене. И для него любовь не есть выход за пределы своего «я», не есть обращенность к своему другому и соединение с ним. Любовь эта – внутренние счеты Версилова с самим собою, его собственная, замкнутая судьба. Личность Версилова всем представляется загадочной, в жизни его есть какая-то тайна. В «Подростке», как и в «Бесах», как и во многих других произведениях, Достоевский прибегает к такому художественному приему, что действие романа начинается после того, как в жизни героев происходит что-то очень важное, определяющее дальнейшее течение событий. Важное событие романа Версилова разыгралось в прошлом, за границей, и на наших глазах изживаются лишь последствия этого события. Женщина играет огромную роль в жизни Версилова. Он – «бабий пророк». Но он так же не способен к брачной любви, как не способен к ней Ставрогин. Он родственник Ставрогина, он – смягченный Ставрогин, в более зрелом возрасте. Мы видим уже внешне его спокойным, до странности спокойным, как бы потухшим вулканом. Но под этой маской спокойствия, почти безразличия ко всему скрыты исступленные страсти. Затаенная, не находящая себе выхода, обреченная на гибель любовь Версилова раскаляет вокруг всю атмосферу, порождает вихри. Все точно в исступлении от затаенной страсти Версилова. Так всегда у Достоевского – внутреннее состояние человека, хотя бы ни в чем не выраженное, отражается на окружающей атмосфере. В сфере подсознательного окружающие люди подвергаются сильному воздействию внутренней, глубинной жизни героя. Лишь под конец прорывается безумная страсть Версилова. Он совершает целый ряд бессмысленных действий, обнаруживая этим свою тайную жизнь. Встреча и объяснение Версилова с Екатериной Николаевной в конце романа принадлежат к самым замечательным изображениям любовной страсти. Вулкан оказался не окончательно потухшим. Огненная лава, которая составляла внутреннюю подпочву атмосферы «Подростка», наконец прорвалась. «Я вас истреблю», – говорит Версилов Екатерине Николаевне и обнаруживает этим демоническое начало своей любви. Любовь Версилова совершенно безнадежна и безысходна. Она никогда не узнает тайны и таинства соединения. В ней мужская природа остается оторванной от женской. Безнадежна эта любовь не потому, что она не имеет ответа, нет, Екатерина Николаевна любит Версилова. Безнадежность тут в замкнутости мужской природы, невозможности выйти к своему другому, в раздвоении. Замечательная личность Ставрогина окончательно разлагается и гибнет от этой замкнутости и этого раздвоения.
Достоевский глубоко исследует проблему сладострастия. Сладострастие переходит в разврат. Разврат есть явление не физического, а метафизического порядка. Своеволие порождает раздвоение. Раздвоение порождает разврат, в нем теряется целостность. Целостность есть целомудрие. Разврат же есть разорванность. В своем раздвоении, разорванности и развратности человек замыкается в своем «я», теряет способность к соединению с другим, «я» человека начинает разлагаться, он любит не другого, а самую любовь. Настоящая любовь есть всегда любовь к другому, разврат же есть любовь к себе. Разврат есть самоутверждение. И самоутверждение это ведет к самоистреблению. Ибо укрепляет человеческую личность выход к другому, соединение с другим. Разврат же есть глубокое одиночество человека, смертельный холод одиночества. Разврат есть соблазн небытия, уклон к небытию. Стихия сладострастия – огненная стихия. Но когда сладострастие переходит в разврат, огненная стихия потухает, страсть переходит в ледяной холод. Это с изумительной силой показано Достоевским. В Свидригайлове показано онтологическое перерождение человеческой личности, гибель личности от безудержного сладострастия, перешедшего в безудержный разврат. Свидригайлов принадлежит уже к призрачному царству небытия, в нем есть что-то нечеловеческое. Но начинается разврат всегда со своеволия, с ложного самоутверждения, с замыкания в себе и нежелания знать другого. В сладострастии Мити Карамазова еще сохраняется горячая стихия, в нем есть горячее человеческое сердце, в нем карамазовский разврат не доходит еще до стихии холода, которая есть один из кругов дантовского ада. В Ставрогине сладострастие теряет свою горячую стихию, огонь его потухает. Наступает леденящий, смертельный холод. Трагедия Ставрогина есть трагедия истощения необыкновенной, исключительно одаренной личности, истощения от безмерных, бесконечных стремлений, не знающих границы, выбора и оформления. В своеволии своем он потерял способность к избранию. И жутко звучат слова угасшего Ставрогина в письме к Даше: «Я пробовал везде мою силу... На пробах для себя и для показу, как и прежде во всю мою жизнь, она оказалась беспредельною... Но к чему приложить эту силу – вот чего никогда не видел, не вижу и теперь... Я все так же, как и всегда прежде, могу пожелать сделать доброе дело и ощущаю от этого удовольствие... Я пробовал большой разврат и истощил в нем силы; но я не люблю и не хотел разврата... Я никогда не могу потерять рассудок и никогда не могу поверить идее в такой степени, как он (Кириллов). Я даже заняться идеей в такой степени не могу». Идеал Мадонны и идеал содомский для него равно притягательны. Но это и есть утеря свободы от своеволия и раздвоения, гибель личности. На судьбе Ставрогина показывается, что желать всего без разбора и границы, оформляющей лик человека, все равно что ничего уже не желать, и что безмерность силы, ни на что не направленной, все равно что совершенное бессилие. От безмерности своего беспредметного эротизма Ставрогин доходит до совершенного эротического бессилия, до полной неспособности любить женщину. Раздвоение подрывает силы личности. Раздвоение может быть лишь преодолено избранием, избирающей любовью, направленной на определенный предмет, – на Бога, отметая дьявола, на Мадонну, отметая Содом, на конкретную женщину, отметая дурную множественность неисчислимого количества других женщин. Разврат есть последствие неспособности к избранию, результат утери свободы и центра воли, погружение в небытие вследствие бессилия завоевать себе царство бытия. Разврат есть линия наименьшего сопротивления. К разврату следует подходить не с моралистической, а с онтологической точки зрения. Так и делает Достоевский.
Царство карамазовщины есть царство сладострастия, утерявшего свою цельность. Сладострастие, сохраняющее цельность, внутренне оправдано, оно входит в любовь, как ее неустранимый элемент. Но сладострастие раздвоенное есть разврат, в нем раскрывается идеал содомский. В царстве Карамазовых загублена человеческая свобода, и возвращается она лишь Алеше через Христа. Собственными силами человек не мог выйти из этой притягивающей к небытию стихии. В Федоре Павловиче Карамазове окончательно утеряна возможность свободы избрания. Он целиком находится во власти дурной множественности женственного начала в мире. Для него нет уже «безобразных женщин», нет «мовешек», для него и Елизавета Смердящая – женщина. Тут принцип индивидуализации окончательно снимается, личность загублена. Но разврат не есть первичное начало, губительное для личности. Он – уже последствие, предполагающее глубокие повреждения в строе человеческой личности. Он уже есть выражение распадения личности. Распад же этот есть плод своеволия и самоутверждения. По гениальной диалектике Достоевского своеволие губит свободу, самоутверждение губит личность. Для сохранения свободы, для сохранения личности необходимо смирение перед тем, что выше твоего «я». Личность связана с любовью, но с любовью, направленной на соединение со своим другим. Когда стихия любви замыкается в «я», она порождает разврат и губит личность. Разверзающаяся бездна сострадания – другой полюс любви – не спасает личности, не избавляет от демона сладострастия, ибо и в сострадании может открыться исступленное сладострастие и сострадание может не быть выходом к другому, слиянием с другим. И в сладострастии и в сострадании есть вечные стихийные начала, без которых невозможна любовь. И страсть и жалость к любимому вполне правомерны и оправданны. Но эти стихии должны быть просветлены увидением образа, лика своего другого в Боге, слиянием в Боге со своим другим. Только это и есть настоящая любовь. Достоевский не раскрывает нам положительной эротической любви. Любовь Алеши и Лизы не может нас удовлетворить. Нет у Достоевского и культа Мадонны. Но он страшно много дает для исследования трагической природы любви. Тут у него настоящие откровения.
Христианство есть религия любви. И Достоевский принял христианство прежде всего как религию любви. В поучениях старца Зосимы, в религиозных размышлениях, разбросанных в разных местах его творений, чувствуется дух Иоаннова христианства. Русский Христос у Достоевского есть прежде всего провозвестник бесконечной любви. Но подобно тому как в любви мужчины и женщины раскрывает Достоевский трагическое противоречие, оно раскрывается ему и в любви человека к человеку. У Достоевского была замечательная мысль, что любовь к человеку и человечеству может быть безбожной любовью. Не всякая любовь к человеку и человечеству есть христианская любовь. В гениальной по силе прозрения утопии грядущего, рассказанной Версиловым, люди прилепляются друг к другу и любят друг друга, потому что исчезла великая идея Бога и бессмертия. «Я представляю себе, мой милый, – говорит Версилов подростку, – что бой уже кончился и борьба улеглась. После проклятий, комьев грязи и свистков настало затишье и люди остались одни , как желали: великая прежняя идея оставила их; великий источник сил, до сих пор питавший и гревший их, отходит, как то величавое, зовущее солнце в картине Клода Лоррена, но это был уже как бы последний день человечества. И люди вдруг поняли, что они остались совсем одни, и разом почувствовали великое сиротство. Милый мой мальчик, я никогда не мог вообразить себе людей неблагодарными и оглупевшими. Осиротевшие люди тотчас же стали бы прижиматься друг к другу теснее и любовнее; они схватились бы за руки, понимая, что теперь лишь они одни составляют все друг для друга. Исчезла бы великая идея бессмертия и приходилось бы заменить ее; и весь великий избыток прежней любви к тому, который был Бессмертие, обратился бы у всех на природу, на мир, на людей, на всякую былинку. Они возлюбили бы и землю и жизнь неудержимо и в той мере, в какой постепенно сознавали бы свою преходимость и конечность, и уже особенною, уже не прежнею любовью. Они стали бы замечать и открыли бы в природе такие явления и тайны, каких и не предполагали прежде, ибо смотрели бы на природу иными глазами, взглядом любовника на возлюбленную. Они просыпались бы и спешили бы целовать друг друга, торопясь любить, сознавая, что дни коротки, что это – все, что у них остается. Они работали бы друг для друга, и каждый отдавал бы всем все свое состояние и тем одним был бы счастлив. Каждый ребенок знал бы и чувствовал, что всякий на земле ему как отец и мать. «Пусть завтра последний день мой, думал бы каждый, смотря на заходящее солнце; но все равно, я умру, но останутся все они, а после них дети их». И эта мысль, что они останутся, все также любя и трепеща друг за друга, заменила бы мысль о загробной встрече. О, они торопились бы любить, чтобы затушить великую грусть в своих сердцах. Они были бы горды и смелы за себя, но сделались бы робкими друг за друга: каждый трепетал бы за жизнь и счастье каждого. Они стали бы нежны друг к другу и не стыдились бы того, как теперь, и ласкали бы друг друга, как дети. Встречаясь, смотрели бы друг на друга глубоким и осмысленным взглядом, и во взглядах их была бы любовь и грусть». В этих изумительных словах Версилов рисует картину безбожной любви. Это – любовь противоположная христианской, не от Смысла бытия, а от бессмыслицы бытия, не для утверждения вечной жизни, а для использования преходящего мгновения жизни. Это – фантастическая утопия. Такой любви никогда не будет в безбожном человечестве; в безбожном человечестве будет то, что нарисовано в «Бесах». Никогда ведь не бывает того, что преподносится в утопиях. Но эта утопия очень важна для раскрытия идеи Достоевского о любви. Безбожное человечество должно прийти к жестокости, к истреблению друг друга, к превращению человека в простое средство. Есть любовь к человеку в Боге. Она раскрывает и утверждает для вечной жизни лик каждого человека. Только это и есть истинная любовь, любовь христианская. Истинная любовь связана с бессмертием, она и есть не что иное, как утверждение бессмертия, вечной жизни. Это – мысль центральная для Достоевского. Истинная любовь связана с личностью, личность связана с бессмертием. Это верно и для любви эротической и для всякой иной любви человека к человеку. Но есть любовь к человеку вне Бога; она не знает вечного лика человека, ибо он лишь в Боге существует. Она не направлена на вечную, бессмертную жизнь. Это – безличная, коммунистическая любовь, в которой люди прилепляются друг к другу, чтобы не так страшно было жить потерявшим веру в Бога и в бессмертие, т. е. в Смысл жизни. Это – последний предел человеческого своеволия и самоутверждения. В безбожной любви человек отрекается от своей духовной природы, от своего первородства, он предает свою свободу и бессмертие. Сострадание к человеку как к трепещущей, жалкой твари, игралищу бессмысленной необходимости – есть последнее прибежище идеальных человеческих чувств, после того как угасла всякая великая Идея и утерян Смысл. Но это не христианское сострадание. Для христианской любви каждый человек есть брат во Христе. Христова любовь есть узрение богосыновства каждого человека, образа и подобия Божьего в каждом человеке. Человек прежде всего должен любить Бога. Это – первая заповедь. А за ней следует заповедь любви к ближнему. Любить человека только потому и возможно, что есть Бог, единый Отец. Его образ и подобие мы должны любить в каждом человеке. Любить человека, если нет Бога, – значит человека почитать за Бога. И тогда подстерегает человека образ человекобога, который должен поглотить человека, превратить его в свое орудие. Так невозможной оказывается любовь к человеку, если нет любви к Богу. И Иван Карамазов говорит, что любить ближнего невозможно. Антихристианское человеколюбие есть лживое, обманчивое человеколюбие. Идея человекобога истребляет человека, лишь идея Богочеловека утверждает человека для вечности. Безбожная, антихристианская любовь к человеку и человечеству – центральная тема «Легенды о Великом Инквизиторе». Мы еще вернемся к ней. Достоевский много раз подходил к этой теме – отрицанию Бога во имя социального эвдемонизма, во имя человеколюбия, во имя счастья людей в этой краткой земной жизни. И всякий раз являлось у него сознание необходимости соединения любви со свободой. Соединение любви со свободой дано в образе Христа. Любовь мужчины и женщины, любовь человека к человеку становится безбожной любовью, когда теряется духовная свобода, когда исчезает лик, когда нет в ней бессмертия и вечности. Настоящая любовь есть утверждение вечности.
Статья посвящена определению роли Любви в жизни человека, какой ее видел Ф. М. Достоевский, подчеркивается фундаментальность этого со- стояния. Из рассмотренных произведений следует, что Ф. М. Достоевский видел в Любви полноту человеческой жизни. Именно Любовь, в самом глубоком смысле этого слова, оказывается проводником человека к соб — ственному Бытию и к Богу.
Ключевые слова: деятельная любовь, бытие, счастье, осознание, грусть, встреча.
Большинству читателей Достоевский известен как ис- следователь глубин человеческой души, вынесший на поверхность сознания все то зло, которое прячется в ее тайниках, заставив — ший своих героев признать свою ответственность за собственные преступления и не перекладывать ее на внешние обстоятельства жизни («среда заела»). Но, на мой взгляд, самая большая заслуга Достоевского была не в той критике человека, которую он так тщательно разработал и завершил в своей «нелепой поэмке», а в глубинном прозрении созидательных сил человека, мощь которых до сих пор остается загадкой. Если и был человек, способный воз — разить великому инквизитору и представить в защиту человека средства, достаточные для преодоления его врожденных слабости и несовершенства, то в первую очередь это сам Достоевский с его гим — ном Любви. Именно этому Богу он посвятил всего себя, пронеся че — рез все испытания жизни самый, казалось бы, хрупкий и уязвимый идеал. Я использую слово Любовь, а не Христос, например, потому что оно одно полностью подходит для выражения идеи писателя. Это ничуть не противоречит известному символу веры Достоевского
1854 г.1, если под Христом понимать не историческую личность, а пример для подражания, которым и хочет руководствоваться Достоевский. Вера его отличается от традиционной религиозной, связанной с определенной конфессией, так как он – единица – не нуждался в единомышленниках, поддержке обществом, а одиноко нес свой крест. Его можно назвать христианином, но нельзя – пра — вославным или католиком, потому что он, как мы увидим позже, вы — шел за рамки церковных догм, законов и ограничений. Достоевский не ставил своей целью реформирование церкви, не строил проектов по спасению отечества или всего человечества. Он хотел разобрать — ся в себе, но, выбрав именно этот путь, он, быть может, сильнее всего помог каждому из нас.
Приступая к чтению Достоевского, нам прежде всего надо по — нять, о какой любви он говорит, а для этого – отказаться на время от привычных многим ограничений, как то: любовь между мужчиной и женщиной, любовь только к Богу, любовь к отечеству, любовь к своему-родному… У Достоевского любовь предстает максимально широко, он рассматривает и оценивает ее саму по себе, как воз — можность любить в принципе. Любовь к человеку – вот как можно это описать. Более того, человек «рождается» (в смысле Бытия) только в любви, и как же много тех, кто умер, «не родившись» на свет. Что называет счастьем Достоевский и как возможно быть счастливым вполне в нашем ужасном мире – вот еще один очень важный вопрос, на который предстоит ответить. Забегая вперед, скажу, что в любви человек вдруг обнаруживает, находит себя бы — тийствующим. А прорвавшийся в Бытие человек одним этим счас — тлив, несмотря ни на какое горе или беду. У Достоевского Бытие и есть Царствие Божие, которое, как известно, силою берется, ибо это не просто – полюбить: «Братья, любовь учительница, но нужно уметь ее приобрести, ибо она трудно приобретается, дорого покупается, долгою работой и чрез долгий срок, ибо не на мгно — вение лишь случайное надо любить, а на весь срок»2, – говорит
старец Зосима.
Отцы и учители, мыслю: «Что есть ад?» Рассуждаю так: «Страдание о том, что нельзя уже более любить». Раз в бесконечном бытии, неизмеримом ни временем, ни пространством, дана была некоему духовному существу, появлением его на земле, способность сказать себе: «Я есмь, и я люблю». Раз, только раз, дано было ему мгновение любви деятельной, живой, а для того дана была земная жизнь, а с нею времена и сроки, и что же: отвергло сие счастливое существо дар бесценный, не оценило его, не возлюбило, взглянуло насмешливо и осталось бесчувственным3.
Кант говорил, что мы не можем узнать, есть ли Бог, но надо жить так, как будто Он есть. Что-то подобное имеет в виду и Достоевский: он утверждает, что надо жить так, как будто ни до, ни после этой жизни не будет ничего столь же яркого, важного и осмысленного, как наша жизнь с ее возможностью любить сейчас. Достоевский возвращает нас в настоящее, именно в нем ищет «живую жизнь». Кроме того, такой человек воспринимает способность любить не как данность, но как бесценный дар, который надо успеть употребить. Это обстоятельство, на мой взгляд, отражено и в притче о талантах4, когда господин похвалил слугу, приумножившего данное ему, а у того, кто всего лишь сберег полученное, отобрал и это, укорив за нерадение и лень.
Рассуждая об аде, Достоевский попытался представить самую страшную судьбу для человека. Это страдание из-за потери воз — можности любить деятельно, ужаснее которого нет ничего. Люди, пережившие смерть любимых, страдают не только и, быть может, не столько от самой потери, сколько от невозможности что-либо еще сделать для ушедшего человека теперь, когда этого так хочет — ся, когда вдруг-осознанная любовь жаждет вырваться, родиться… и не может. Достоевский пережил смерть двух своих детей, и ужас этого страдания был, несомненно, знаком ему. Он пережил этот ад сам и потом описал его в образе матери, потерявшей сына, в гла — ве «Верующие бабы» своего последнего романа. И старец Зосима возвращает ее к жизни не утешением, а указанием на возможность деятельной любви к сыну через заботу о его отце. В этом же ключе Достоевский рассматривает образ самого загадочного и непостижи — мого, после Авраама, ветхозаветного героя – Иова: не вопрошание Иова к Богу, не мучительный поиск смысла во всех его страданиях и лишениях интересует Достоевского; он обращает внимание на чудо любви, которое не смогли уничтожить все ужасы жизни человека в этом мире. На вопрос обывателя, как можно любить новых детей и быть счастливым в полноте, вспоминая старых, Достоевский тихо отвечает, что это возможно: «Старое горе великою тайной жизни человеческой переходит постепенно в тихую умиленную радость»5. Какое горе может быть значительнее любви сейчас? Достоевский не умозрительно ставит любовь на первое место, это – его внутренний опыт, так он чувствует самого себя, так он видит Иова. Девятилетний Илюша Снегирев, прощаясь с отцом, говорит ему: «Папа, не плачь… а как я умру, то возьми ты хорошего мальчика, другого… сам выбери из них из всех, хорошего, назови его Илюшей и люби его вместо меня… <…> А меня, папа, меня не забывай никогда…»6 Вот как сам Достоевский приоткрывает «великую тайну жизни человеческой»: любовь сына и пожелание счастья дают отцу – капитану Снегиреву
или Иову – смысл жить дальше. Илюша не просто позволяет отцу любить кого-то, кроме себя, а, наоборот, завещает ему эту любовь. А какой завет дает Зосима Алеше: «В горе счастья ищи»7. Почему? Горе смывает все мелкое и незначительное, обнажая тот фундамент, на котором стоит наша жизнь. Потому-то «подпольный человек» и восклицает: «Страдание – да ведь это единственная причина созна — ния»8. Может быть, оттолкнувшись от страдания, вызванного поте — рей конкретного человека, Достоевский смог обобщить его причину и таким образом понять, что есть ад. Но тогда жизнь с ее возмож — ностью любить здесь и сейчас становится для него раем. «Разве я теперь не в раю?»9 – восклицает он устами Маркела.
Что же такое счастье, по Достоевскому? Я бы сказал так: счас — тье – это прежде всего то, что надо осознать. Известно высказыва — ние Кириллова о счастье: «Человек несчастлив, потому что не знает, что он счастлив. <…> Кто узнает, тотчас же станет счастлив, сию минуту»10. Значит, проблема не в том, чтобы стать счастливым, а в
том, чтобы осознать себя таковым. Поэтому-то в рассуждении об
аде Достоевский и называет человека «счастливым существом». А раз для счастья требуется осознание, то время и даже жизнен — ный опыт перестают играть решающее значение для этого скачка в бытие. Здесь как никогда ярко проявляется любимое понятие Достоевского, характеризующее человека, оно выражается словом вдруг. Наглядным примером этих идей становится Маркел, семнад — цатилетний юноша, угасающий от чахотки и отчаянно пытающийся найти что-то самое важное в так поспешно покидающей его жизни. Достоевский не показывает, как он пришел к осознанию ценности любви, это осталось личной тайной, но гораздо важнее сам факт. И Достоевский использовал весь свой творческий потенциал, что — бы описать несколько дней из жизни такого человека в нашем мире. Он борется с самим временем, с подступающей смертью, наполняя смыслом каждую минуту. Чем меньше у него возможностей сопри- коснуться с миром, тем шире становится круг любимых им людей: семья, прислуга, знакомые, наконец весь божий мир. «Да чего годы, чего месяцы! – воскликнет, бывало, – что тут дни-то считать, и одного дня довольно человеку, чтобы все счастие узнать (курсив мой. – К. З.). Милые мои, чего мы ссоримся, друг пред другом хва- лимся, один на другом обиды помним: прямо (курсив мой. – К. З.) в сад пойдем и станем гулять и резвиться, друг друга любить и вос- хвалять, и целовать, и жизнь нашу благословлять»11, – говорит нам
Маркел. А что значит «прямо в сад пойти»? Значит простить всем,
отказаться от справедливого возмездия за преступления, от ока за око, и многие ли согласятся принести такую страшную жертву на алтарь любви? Вот Иван Карамазов уже поспешил отказаться,
для него не существует ничего важнее страдания и боли. А как же Маркелу удалось разом перескочить все эти естественные прегра — ды? Он, может быть, сказал в сердце своем: «Можно любить!» – и больше ничего не потребовал от жизни. Он не только обнаружил эту возможность, но и каким-то образом почувствовал, что она пре — восходит собой все несчастья, скверную среду, все несовершенство и слабость человека. Еще один важный штрих к портрету человека, добавленный Маркелом, это – ошеломляющая свобода становле — ния. Человек – это такое существо, которое свободно любить; раз узнав о такой цели, он может сразу устремиться к ней. Так и Маркел любит не просто окружающих его близких, он любит саму Любовь. По сути, весь роман «Братья Карамазовы» является обширным комментарием к нескольким идеям Маркела, которые уместились на двух страницах: что значит «жизнь есть рай»; как может быть так, что я во всем за всех виноват; почему «все должны один другому служить»; почему мы счастливы; почему красота спасает мир; что значит жить после кого-то прекрасного? Гений Достоевского в пер — вую очередь проявился в том, что он смог сотворить этот коммента — рий из картин настолько жизненных и убедительных, что даже дети могут понять его.
Тема любви, или богоискательства, пронизывает все творчество Достоевского, по-разному отражаясь в жизни человека: любовь как свобода и полнота жизни в «Братьях Карамазовых»; любовь как личная истина в «Сне смешного человека»; любовь как судьба че — ловечества в «Подростке»; любовь как счастье, без которого жизнь теряет всякий вкус и смысл, в «Бесах»; любовь как сила, воскреша — ющая Лазаря, в «Преступлении и наказании», любовь как призва — ние и действительное, а не мнимое присутствие человека в мире в романе «Идиот». Для того чтобы составить более или менее полную картину представления Достоевского о любви, нужно собрать вме — сте все части головоломки, рассеянные автором по страницам своих произведений.
«Смешной человек» проходит через ужасные испытания, через
«опыт зла», как говорил Бердяев12, чтобы родиться как человек. Начало и конец его пути знаменуются одной и той же фразой: «Мне
все равно!» Но Достоевский полностью переворачивает ее смысл: от тотального безразличия к жизни и людям до полного пренебреже — ния разъедающим воздействием «среды», когда истина уже найдена им. Фантастичность рассказа заключается лишь в специфических условиях, в которые помещает своего героя Достоевский, чтобы тот не мог отрицать своей вины, а, наоборот, взял ответственность за падение мира, начавшееся с одного «атома чумы». Какова же эта истина? «А между тем ведь все идут к одному и тому же, по крайней
мере все стремятся к одному и тому же, от мудреца до последнего разбойника, только разными дорогами. <…> Потому что я видел ис — тину, я видел и знаю, что люди могут быть прекрасны и счастливы, не потеряв способности жить на земле. Я не хочу и не могу верить, чтобы зло было нормальным состоянием людей»13. Над этим ли смеяться?
Еще один изгой или, лучше сказать, отшельник, непонятый, –
князь Мышкин – так говорил к человеку:
…и неужели в самом деле можно быть несчастным? О, что такое мое горе и моя беда, если я в силах быть счастливым? Знаете, я не понимаю, как можно проходить мимо дерева и не быть счастливым, что видишь его? Говорить с человеком и не быть счастливым, что любишь его! О, я только не умею высказать… а сколько вещей на каждом шагу таких прекрасных, которые даже самый потерявшийся (курсив мой. – К. З.) человек находит прекрасными? Посмотрите на ребенка, посмотрите на божию зарю, посмотрите на травку, как она растет, посмотрите в глаза, которые на вас смотрят и вас любят…14
Кто это говорит? Откуда он пришел? Почему говорить с челове- ком – значит любить его? Для чего вообще человеку речь? Почему я смотрю в глаза любви и не узнаю ее? Мышкин видит окружающий мир в тысячах оттенков прекрасного, которое прячется за каждой мелочью и в каждой душе. Для него не существует незначительных носителей прекрасного, все они слишком дороги ему, чтобы прохо — дить мимо. Как же он научился так тонко видеть мир? Представьте себе человека, долгие годы скитающегося в унылой пустыне, где не на чем остановить взор, нечем утолить жажду жизни. И вдруг вдалеке он замечает идущего ему навстречу человека, впервые за много лет. Какое же чувство охватит его целиком? Какая надежда загорится в сердце? Какие слова поднимутся из глубины? Здесь, в этой голой пустыне, мне как никогда ясно, что этот первый прохожий может оказаться моим последним шансом творчества деятельной любви, а с ней и обретения самого себя, и восполнения жизни. Я не спраши — ваю: «Кто ты?» – но я ждал именно тебя. Перед лицом жажды любви никакое прошлое не имеет решающего значения, но это поймет лишь тот, кто дошел до предела, кто сумел возжаждать. Христос спраши — вал своих учеников: «Что смотреть ходили вы в пустыню?»15 Зачем вообще уходить в пустыню? На этот вопрос многие бы ответили: чтобы умертвить свою плоть и стать свободным от нее. Но есть и другая причина: чтобы обрести жажду любви, которая научает чело — века ценить все мельчайшие ее, любви, проявления, помогает усмот — реть в каждом человеке образ Божий, готовит его ко встрече с «Ты».
Устами Заратустры Ницше советует: «Беги, мой друг, в свое уеди — нение!»16 – чтобы остаться самим собой. Князь Мышкин делает еще более тяжелый выбор: он «бежит» в пустыню, чтобы встретить хоть кого-нибудь в своей жизни. Отчасти это проявляется в его болезни, но интенция его взаимодействия с людьми свидетельствует о созна- тельном движении навстречу каждому. Часто о нем говорят, что он не от мира сего. А если все наоборот: это мы думаем, что живем, а на самом деле еще и не начинали? Князь прошел через пустыню, чтобы войти в жизнь, а что сделали мы? Кого мы встретили и полюбили? Мир с его миллиардами жителей старается обесценить в наших глазах каждого конкретного человека, трактуя его как раздражитель и помеху, а не проводника к нашему бытию. В результате тот внут- ренний мир, в котором мы живем, оказывается пустым и холодным, в нем люди не присутствуют по-настоящему, а проплывают мимо, как призраки. Кто из нас, отправляясь в час пик на работу, в метро хоть раз избежал раздражения от толпы, духоты и давки? Как бы вы смотрели на этих людей? А теперь посмотрите на них «из пустыни» глазами Мышкина, «смешного человека», Маркела или ребенка, и, может быть, в каждом из них увидите затаившуюся возможность деятельной любви, встречи с дорогим вам человеком. Разве те, кого мы полюбили однажды, жены и мужья, друзья и учителя, не были такими же прохожими, лишь чудом не прошедшими мимо? Кто может похвастать, что с первого взгляда узнал свою возлюбленную? Но Достоевский подсказывает нам, что чаще всего мы не видим или не хотим видеть того богатства, которое таится в каждом из нас.
«Посмотрите в глаза, которые на вас смотрят…» – говорит он именно потому, что мы этого не делаем. Иначе для нас не была бы тайной та любовь, которая за ними скрывается. Чтобы увидеть малое, надо захотеть многого от любви. Достоевский сам называл Мышкина неудавшейся попыткой представить Христа в наше время, и многие критики так же о нем отзывались, так как он ничего не добился, не предотвратил катастрофу, не спас от уныния стоящего на пороге смерти Ипполита, не вдохновил к новой жизни окружающих его людей, казалось бы, потерпел полное поражение и от этого опять провалился в свою болезнь. Но разве он не остался самим собой? Это ли не величайшая победа? Разве она не потребовала от него на — пряжения всех духовных сил? Или он пожалел о своих усилиях, ос — тавшихся тщетными? Одно только чудо явления в слове откровения Достоевского о любви оправдывает Мышкина целиком и делает его бесценным наследием на пути в очеловечивания личности. Теперь выбор за нами: воспользоваться или нет его примером.
Нам остается рассмотреть последний, самый трудный аспект в понимании Достоевским любви, а именно проблему любви и вре-
мени, отношения «я» и «мы». Для этого рассмотрим глубочайшую по силе интуиции антиутопию Достоевского, представленную в
«картине» Версилова:
Я представляю себе, мой милый, – начал он с задумчивою улыбкою, – что бой уже кончился и борьба улеглась. После проклятий, комьев грязи и свистков настало затишье, и люди остались одни, как желали: великая прежняя идея оставила их; великий источник сил, до сих пор питавший и гревший их, отходил, как то величавое зовущее солнце в картине Клода Лоррена, но это был уже как бы последний день челове — чества. И люди вдруг поняли, что они остались совсем одни, и разом по — чувствовали великое сиротство. Милый мой мальчик, я никогда не мог вообразить себе людей неблагодарными и оглупевшими. Осиротевшие люди тотчас же стали бы прижиматься друг к другу теснее и любов — нее; они схватились бы за руки, понимая, что теперь лишь они одни составляют все друг для друга. Исчезла бы великая идея бессмертия, и приходилось бы заменить ее; и весь великий избыток прежней любви к тому, который и был бессмертие, обратился бы у всех на природу, на мир, на людей, на всякую былинку. Они возлюбили бы землю и жизнь неудержимо и в той мере, в какой постепенно сознавали бы свою про — ходимость и конечность, и уже особенною, уже не прежнею любовью. Они стали бы замечать и открыли бы в природе такие явления и тайны, каких и не предполагали прежде, ибо смотрели бы на природу новыми глазами, взглядом любовника на возлюбленную. Они просыпались бы и спешили бы целовать друг друга, торопясь любить, сознавая, что дни коротки, что это – все, что у них остается. Они работали бы друг на друга, и каждый отдавал бы всем все свое и тем одним был бы счастлив. Каждый ребенок знал бы и чувствовал, что всякий на земле – ему как отец и мать. «Пусть завтра последний день мой, – думал бы каждый (курсив мой. – К. З.), смотря на заходящее солнце, – но все равно, я умру, но останутся все они, а после них дети их (курсив мой. – К. З.)» – и эта мысль, что они останутся, все так же любя и трепеща друг за друга, заменила бы мысль о загробной встрече. О, они торопились бы любить, чтоб затушить великую грусть в своих сердцах. Они были бы горды и смелы за себя, но сделались бы робкими друг за друга; каждый трепетал бы за жизнь и за счастие каждого. Они стали бы нежны друг к другу и не стыдились бы того, как теперь, и ласкали бы друг друга, как дети. Встречаясь, смотрели бы друг на друга глубоким и осмысленным взглядом, и во взглядах их была бы любовь и грусть…17
Опять попытаемся услышать, кто и откуда это говорит? Важно, что Версилов рассказывает не о каком-то бесконечно далеком и чуждом ему времени или эпохе – он сам по-настоящему живет
лишь там, как бы пытается докричаться до нас. Везде, где он говорит
«они», прежде всего он имеет ввиду самого себя. Это не мир вокруг него изменился, а он сам так пересмотрел свою жизнь. Но, выража — ясь так обо всех людях, Достоевский подчеркивает свою веру в то, что этот путь – тщетность борьбы, одиночество, сиротство, великая грусть и, наконец, любовь, утоляющая ее, – онтологически присущ каждому человеку. Так он верит, что его личная истина может быть истиной и для кого-то еще, иначе не было бы смысла вообще гово — рить о ней, но он не отказался бы от нее, оставшись одиноким, непо — нятым и непринятым. Каков же этот последний день человечества? Какой бой уже закончился и какая борьба улеглась? Всякий, гово — рит Достоевский, его сарказм в описании борьбы подчеркивает ее бессмысленность, мелочность, неоправданность, мол, только дети могут серьезно относиться к проклятьям, комьям грязи и свисткам, что есть суть любой борьбы или войны. Но, к сожалению, нельзя просто перестать бороться по чьей-то подсказке, надо самим дойти до тщеты и пустоты этих усилий, надо «устать в бессмысленном труде»18 и достигнуть его цели – остаться одним, как мы сами того
хотели. И это происходило уже в XIX в., что Ницше констатировал
как «смерть Бога». Достоевский же подчеркивает, что Бог «умер» именно как великая идея, как знамя борьбы, как предмет дележа и толкования, как надежда и гарантия будущего бессмертия. И вот, оставшись на этой земле здесь и сейчас, люди впервые ощутили си — ротство и великую грусть, но они явились не бессмысленным стра — данием, а экзистенциальным, уже в них люди ощутили себя живыми и через них впервые посмотрели друг на друга как на проводников своего бытия. Они не от слабости какой-то стали бы прижиматься друг к другу, как может показаться, ибо любить конкретного чело — века всегда тяжелее, чем лелеять великую идею. Здесь растворяется иллюзия и открывается исход к бытию. Бог не просто умер, Он ушел из мира как застывшая объективация, как слово, имя или тайна, которую, как заметил великий инквизитор, все трактуют по-свое — му, исходя из своих интересов. Но уйдя, Он родился и поселился в сердцах людей19, через великую грусть проведя их к живой любви.
Замечу, что Достоевский не отрицает бессмертие как возможность,
просто он не рассчитывает на него, его цель – показать все богатство и полноту жизни здесь и сейчас, вернуть ей самоценность, отнятую иллюзиями великих идей. Осознание смерти как абсолютного кон — ца открыло для людей ценность минуты. Более того, жажда бытия, доведенная до предела и нашедшая выход в любви, как бы останав — ливает само время: этот последний день человечества длится вечно, есть только настоящее. Ведь каждый день, торопясь любить, они проживают как последний – вечное возвращение. Не надо полагать, что оно так происходит само собой, это тяжелый труд и подвиг человека, так как не бывает любви невыношенной, не рожденной в муках. Образ этого дня сам Достоевский передал в заходящем зо — вущем солнце, которое вот-вот скроется за горизонтом, но солнце это – солнце любви, и, провожая его взглядом, человек как никогда остро ощущает в себе его зов и боится его потерять, а с ним и себя самого, и грусть его так велика, что солнце застывает, пока его со — зерцание полно живого чувства прекрасного и горечи от его потери. Сама возможность любви в этом мире оказывается настолько фун — даментальной и значимой, что ее сохранение в жизни людей после меня становится для меня же дороже собственного бессмертия, ее одной довольно для моего счастья, говорит Достоевский. «А знать (курсив мой. – К. З.), что есть солнце – это уже вся жизнь», – вос — клицает Митя Карамазов в «трагическом гимне Богу, у которого радость!»20
Таким образом, Достоевский представляет любовь, как вечное
прощание, в котором и состоит вся жизнь, а счастье – абсолютно естественным состоянием для «некоего духовного существа», по- явлением которого на свет была дана возможность сказать самому себе: «Я есмь. И я люблю!»
Материал взят из: Научный журнал Серия «Философия. Социология» № 13 (56) / 2010
Любовь Достоевского
Ее хотелось оберегать
После каторги, куда Достоевский попал за участие в революционном кружке, он был отдан в солдаты и сослан в Семипалатинск. Еще не было написано ни одного романа - только повесть "Бедные люди" - правда, над ней плакал весь Петербург. В Семипалатинске солдат познакомился с чиновником Александром Исаевым и его женой Марией Димитриевной. Хрупкая болезненная блондинка разбудила в измученном сердце такую нежность, что ее хватило на много лет вперед. Он проникся несчастной женской судьбой: борьбой с пьяницей-мужем, воспитанием непослушного сына Паши, прозябанием в унылом, затерянном в степях городе. И главное - впервые образованная женщина из общества дарила Достоевскому свою благосклонность. Ему казалось: только она с ее чуткой душой увидела, что за нескладной фигурой, за солдатской грубой шинелью скрыта ранимая и поэтическая натура. Он боготворил Марию Димитриевну, он буквально молился на нее. Непредсказуемая А она оказалась женщиной капризной, обидчивой. Быстро уставала, страдала от мигреней, часто рыдала без удержу. Целыми часами изливала ему свои обиды и жалобы. Достоевский был, по его словам, "пронзен" - и не скрывал своего обожания. Мария Димитриевна с наслаждением купалась в душевной теплоте влюбленного. Сама же очень скоро привязалась к нему, но о любви говорить не приходилось. Только через год, как писал Достоевский другу, он получил "истинные доказательства" - наконец-то между ними случилась близость. Влюбленный был на седьмом небе. Но - ирония судьбы! - через неделю мужа возлюбленной перевели служить за шестьсот верст от Семипалатинска.
Отцветшие чувства
Три ужасных года пережил Достоевский, пока не соединился вновь с любимой женщиной. Муж Марии Димитриевны спился и умер, оставив ее в нищете. Достоевский (срок солдатской службы как раз окончился) умолил ее согласиться на брак. Никакой радости этот союз не принес. Мария Димитриевна делалась все более нервной, в ней вскипала какая-то истерическая чувствительность. Оба раздражали и изматывали друг друга постоянной борьбой, нападками, упреками, уверениями в вечной любви одновременно. У него стали случаться припадки эпилепсии. Она превратилась в законченную истеричку, которую к тому же сжигал смертельный туберкулез... Оба оказались у могилы своего брака. Тем более что Федор Михайлович - к тому времени известный писатель - однажды получил письмо от 22-летней девушки Аполлинарии Сусловой. Девушка объяснялась в любви, а он уже и забыл, что это такое...
Зов плоти
Нет, не забыл: каждая клеточка жаждала любви, и любви - чувственной! Для Аполлинарии сорокатрехлетний писатель был первым мужчиной: она принципиально долго оставалась девушкой. О, новая возлюбленная была не чета болезненной Марии Димитриевне, а главное, обладала качеством, которое мы сейчас определяем как сексапильность, а в те времена называли по-французски "обещанием счастья". Аполлинария была любопытна до физической любви и в то же время брезглива, могла отдаваться со страстью и при этом все анализировать. Ее горячую натуру до глубины души оскорбляло, что победителем в их ночах всегда был мужчина. Достоевский разбудил ее плоть, но не удовлетворил в том смысле, что "не было в этом союзе еще и душевного слияния, только при котором возможно истинное торжество любви", как много лет спустя писал сам Федор Михайлович.
Женская месть
Связь с Аполлинарией принесла Достоевскому много горя и забрала бездну душевных сил. Безумные любовные оргии сменялись настоящей войной, когда она не допускала его до себя. Свою злость Аполлинария объясняла ревностью - к писательскому труду, к несчастной, еле живой Марии Димитриевне. После очередного скандала примирившиеся любовники решили ехать за границу. Первой выехала Аполлинария, и когда Достоевский в Париже догнал ее, оказалось, что теперь любимую надо утешать в неразделенной страсти к какому-то прощелыге-испанцу... Переживания Достоевского были ужасны. Если в Петербурге он властвовал над ней, то теперь роли роковым образом переменились. Она стала настаивать на платонических отношениях, и он принужден был согласиться. Видеть рядом молодую прекрасную любовницу и не сметь ее коснуться - месть с ее стороны дьявольская. Зато женское начало в Аполлинарии торжествовало: мужчине никогда не победить ее, никогда! Она отклонила все его мольбы о замужестве и объявила: им пора расстаться!
Тихая стенографистка
Душевные раны мог залечить только Петербург... Марии Димитриевны уже не было на свете. Несмотря на горе, нанесенное молодой любовницей, Достоевский задумал новый роман "Игрок". Потребовалась отличная стенографистка, и знакомые порекомендовали двадцатилетнюю Аню Сниткину. Она не сразу осознала, что влюбилась в известного писателя. Ее ужасал его быт - ест деревянной ложкой, не умеет экономить, некому вычистить ему сюртук... И Достоевский привык к душевному спокойствию Анечки, ее рассудительности. Впервые в жизни рядом оказалась не хищница, не мучительница, а любящая душа, помощница. Он решился... На просьбу стать женой Аня Сниткина ответила: "Буду любить вас всю жизнь", и сдержала слово. Анна была такой чистой и наивной, что весь безумный сексуальный опыт мужа приняла как должное, не удивляясь и не пугаясь. А он, помня об Аполлинарии, с опаской вводил ее в мир сладострастья. Что ж, можно представить себе высоты, на которых парил человек на шестом десятке лет с молодой любимой еще четырнадцать лет, которые ему суждено было прожить... Все в его жизни было - романтическое море любви, ревущий океан страсти и, как награда, - тихая пристань. Любимые женщины легко узнаются в характерах героинь его рыдающей прозы.
Первая жена Достоевского - Мария Димитриевна.
Чертами ее взрывного, непредсказуемого и истеричного характера муж наделил Катерину Ивановну ("Преступление и наказание"), Наташу ("Униженные и оскорбленные"), Настасью Филипповну ("Идиот"), Грушеньку ("Братья Карамазовы"). Мария Димитриевна угасла от туберкулеза - разбитая, издерганная, измученная, в разгар страсти мужа к Аполлинарии. Через два года любовница покинет Достоевского, а еще через год он вновь женится - на этот раз счастливо.
Аполлинария Суслова.
С нее писал он Полину в романе "Игро"=, оставив этой жестокой героине даже настоящее имя. Аполлинария Суслова после разрыва имела нескольких любовников, слыла женщиной жесткой и недоброй. Когда ей перевалило за сорок, в нее влюбился восемнадцатилетний юноша - будущий философ В. Розанов. Этот брак просуществовал несколько лет, пока "Суслиха" - теперь ее в светских кругах называли так - не бросила молодого мужа, издеваясь над его любовью. Умерла глубокой старухой, до конца жизни сохранившей остатки красоты и железобетонный характер.
Вторая жена Анна Григорьевна Сниткина
Некоторые ее черты узнаются в Дунечке Раскольниковой ("Преступление и наказание"). Анна Григорьевна Сниткина родила великому писателю детей и на много лет пережила Достоевского - когда он умер, ей было всего 35. Из личной переписки она старательно вымарала все страстные эротические признания Федора Михайловича. Так что мы никогда не узнаем, какие сексуальные фантазии тревожили ее гениального мужа.
Фёдор Михайлович Достоевский по праву считается одним из величайших и талантливейших литературных деятелей, причем не только на родине, но и за рубежом. Влияние, оказанное им на мировую литературу и умы миллионов, неоспоримо. Самые разнообразные люди называют его имя в числе своих любимых авторов. Среди них нынешний премьер-министр РФ, Дмитрий Медведев, колумбийский писатель Габриэль Гарсиа Маркес, французский актер Жерар Депардье и многие другие.
Театральные же постановки по произведениям Достоевского можно увидеть на сценах практически всех европейских столиц. Между тем, рядовому читателю мало что известно о жизни признанного гения, слова и мысли которого не теряют актуальность и спустя столетие. А ведь на его долю выпало немало испытаний...
Фёдор Михайлович в Москве 30 октября 1821 года в семье Михаила Андреевича и Марии Фёдоровны Достоевских. Отец будущего писателя был штаб-лекарем, прекрасным врачом, но довольно строгим человеком. Мать же была доброй и понимающей , которая мирилась со сложным любимого мужа.
Фёдор был вторым ребенком в семье, где всего было восемь . Несмотря на то, что семья Достоевских была довольно дружной, детям не раз приходилось становиться невольными свидетелями ссор между родителями. И, возможно, именно характер отца привел к тому, что в возрасте 16 лет юному Фёдору пришлось пережить первую в своей жизни трагедию - скончалась его мать. К тому времени Фёдор и его брат Михаил в одном из частных пансионатов Москвы, окончив который в 1838 году, стали студентами Петербургского военно-инженерного училища.
В 1839 году на семью Достоевских снова обрушилось горе - от апоплексического удара скончался отец семейства, Михаил Андреевич. Между тем ходили упорные слухи, будто бы сами крестьяне расправились с ним, ибо барин, , вел себя непотребно с молодыми девицами. Правда это или нет - кто же теперь сможет нам ответить? Но перенесенный удар сказался на Фёдора: у Достоевского впервые случился приступ эпилепсии, преследовавшей будущего писателя .
После окончания училища Достоевский устроился в чертежную инженерного департамента, однако в 1844 году вышел в отставку, решив посвятить себя литературному труду. И в 1846 году была первая повесть Фёдора Михайловича - «Бедные люди». Во многом этому поспособствовал Дмитрий Григорович - литератор, с которым Достоевский был знаком еще с училища. Именно он отнес работу начинающего писателя Некрасову, который и опубликовал ее в своем журнале.
После публикации «Бедных людей» общественность заговорила о молодом писателе как о надежде русской литературы. Сам Белинский оценил работу Достоевского. Казалось, вот оно, прекрасное начало безмятежного творческого пути, но уготовила новые испытания на долю гения.
Вышедшие вслед за «Бедными людьми» повести писателя не имели прежнего успеха. К тому же Достоевский стал частым гостем у Михаила Петрашевского - работника Министерства иностранных дел, обладавшего весьма незаурядной коллекцией запрещенной на тот момент литературы. Петрашевский с радостью предоставлял возможность ее прочтения своим единомышленникам, считавшим себя продолжателями дела декабристов и сторонниками утопического социализма.
На деле же у Петрашевского собирались образованные молодые люди, любившие пускаться в рассуждения на насущные темы, не более того. Да и Достоевскому в основном были чужды пропагандируемые ими идеи, и справедливо можно полагать, что вскоре Фёдор Михайлович спокойно сменил бы свой круг общения... но судьба распорядилась иначе. Петрашевцы были обвинены в чтении запрещенного «Письма Белинского к Гоголю», которое власти относили к списку революционной литературы, и боявшийся повторения событий 1825 года Николай I приговорил вольнодумцев к расстрелу.
22 декабря 1849 года девятерых осужденных возвели на эшафот. После обхода священником первую троицу приговоренных привязали к столбу, надвинув им на глаза колпаки, а подняли ружья, готовясь открыть огонь и исполнить приказ. Мгновенье - и всё свершится. И тут осужденным объявили о смене наказания: расстрел был заменен на 4 года каторжных работ и поселение в Сибири.
В январе 1850 года Достоевского доставили в Омскую крепость, где писатель отбывал своё наказание вплоть до 1854 года. Годы каторжных работ ему бесценный опыт и возможность узнать человеческие типажи и судьбы. Этому периоду своей жизни писатель посвятит книгу «Записки из мертвого дома», которая впоследствии станет классикой литературы.
По окончании каторжных работ Достоевский записывается рядовым в Сибирский линейный батальон и служит там, параллельно ходатайствуя о своем восстановлении в правах, и в 1856 году получает звание офицера. В 1859 году он покидает Семипалатинск, в котором проходила его служба, и отправляется в Тверь, а затем и в Петербург, на проживание в котором, наконец, было получено разрешение. Здесь вместе со старшим братом Михаилом Фёдор основывает журнал «Время», на страницах которого вскоре будут опубликованы «Униженные и оскорбленные», а также «Записки из мертвого дома».
В 1864 году после закрытия журнала из-за проблем с цензурой Достоевские открывают журнал «Эпоха». Но новому детищу братьев не было суждено долгое существование: в апреле того же года умирает Михаил, а через год с небольшим выходит последний выпуск «Эпохи». Достоевский отправляется в по европейским городам, о котором так давно мечтал, чтобы отдохнуть и увидеть свет. Хотя была этому, безусловно, и еще одна причина.
Как и в жизни любого человека, любовные переживания оказали неоспоримое влияние на творчество Фёдора Михайловича. Первые сильные чувства писатель испытал в 1854 году, сразу же по окончании каторжных работ. Находясь на службе в Семипалатинске, Достоевский знакомится с Марией Дмитриевной Исаевой (в девичестве Констант), женой чиновника особых поручений. Несмотря на все удары судьбы (муж Исаевой спивался, и она была вынуждена одна растить малолетнего ребенка), больная чахоткой Мария Дмитриевна обладала незаурядной (ко всему прочему, в ней текла французская кровь). Черты Марии Дмитриевны Достоевский подарил своим героиням: Катерине Мармеладовой, Катерине Верховенской из Братьев Карамазовых, Настасье Филипповне.
В 1855 году мужа Марии Дмитриевной переводят в Кузнецк. В августе того же года Исаев умирает. Но на пути снова появляется преграда: в Кузнецке у молодой вдовы быстро появился новый кавалер - учитель по фамилии Вергунов, познакомившись с которым, Достоевский был готов отступить ради счастья своей любимой. Но Исаева выбрала именно его. Между тем, Достоевский отнюдь не был счастлив в этом браке: детей с женой у них не было, к тому же Марию Дмитриевну ничуть его творчество. Все это привело к тому, что в жизни писателя появилась другая женщина.
В 1861 году, после одного из выступлений писателя перед студентами, к Достоевскому подошла юная особа, назвавшая себя его таланта. Ею оказалась 22-летняя Апполинария Суслова - вольнослушательница Петербургского университета. Отец Полины (как звали ее домочадцы) был крестьянином, выкупившим у помещика себя и . Он стремился дать своим детям хорошее образование, посему не жалел на обучение дочерей.
Вспыхнувшие чувства привели к бурному роману, который вскоре превратился в пытку для обоих. Апполинарию не устраивало, что Достоевский никак не хотел разводиться со своей женой по причине ее болезни.
За год до Марии Дмитриевны Достоевский и Суслова приняли решение посетить Париж. Полина уехала из России первой, поскольку у Фёдора Михайловича оставались неотложные дела на родине. Когда же он, наконец, прибыл во Францию, выяснилось, что Апполинария нашла себя нового возлюбленного. Им оказался молодой испанец.
Известие о новом увлечении любовницы потрясло Фёдора Михайловича, однако он продолжал оставаться рядом с нею. Роман с испанцем закончился скорым расставанием (он ушел от Сусловой), да и с Достоевским у Полины жизнь так и не сложилась. Стараясь насолить ему, Апполинария отказывалась стать его женой, при этом держа писателя около себя. Через много лет Полина еще раз проявит всю свою сущность, на этот раз в отношениях с критиком Розановым, которого будет старше на 20 лет и которому она в течение 20 лет не будет давать развода.
Из порочного круга связей с Апполинарией Достоевского вырвала вторая жена великого литератора, юная стенографистка Анна Сниткина. Можно сказать, что она была послана писателю судьбой - в тот момент, когда Достоевский не успевал со сдачей «Игрока» (кстати, угадайте, кто был прототипом Полины?), юная поклонница его творчества пришла на помощь. Роман был продиктован ей в 26 дней. С тех пор они с писателем были неразлучны.
Анну Сниткину справедливо можно назвать самой мудрой из трех роковых женщин в жизни Достоевского. Она создала писателю все условия для творчества, прощала ему его увлечение и порой излишнюю ревность, подарила ему детей и семейный уют, благодаря которому Фёдор Михайлович смог забыть о Сусловой. Именно во время второго брака Достоевским были написаны «Идиот», «Бесы», «Подросток» и «Братья Карамазовы». Для Достоевского Анна была ангелом, и он не переставал ею восхищаться вплоть до своего последнего дня.
Фёдор Михайлович скончался 23 января 1881 года от эмфиземы легких. Свои последние минуты он провел в обществе родных ему людей. Анна пережила его на 37 лет, не переставая служить своему мужу: она выпустила сборники его произведений, помогала в работе биографам. Спустя полвека после ее кончины прах Анны Григорьевны был перевезен из Ялты в Александро-Невскую лавру и погребен рядом с могилой Достоевского. Как она всегда и мечтала.
Нынешний год проходит под знаком великого русского писателя Достоевского. В феврале исполнилось 130 лет со дня смерти, а в ноябре будет отмечаться 190-летие со дня его рождения. Чем не повод поразмышлять о судьбе Федора Михайловича, его путеводной зв
Он был сложным человеком: нервный, рассеянный, неуверенный в себе, страдающий припадками эпилепсии, к тому же страстный игрок. Неудивительно, что с женщинами у него были вечные проблемы. Сначала безумная влюбленность в Авдотью Панаеву, из-за которой он терпел постоянные насмешки в салонах. А между тем девушка предпочла ему Некрасова. Потом неудачная женитьба на Марье Дмитриевне Исаевой, женщине мелочной, ревнивой, которая воспринимала бедность как постоянное оскорбление, изводила Достоевского упреками и была равнодушна к его творчеству. После смерти жены писатель пережил еще несколько романов, которые не принесли ему ничего, кроме боли и разочарования. Любовные неудачи преследовали Достоевского до тех пор, пока он не встретил Анну Сниткину. Эта последняя любовь, словно в награду за прежние неудачи, стала счастьем его жизни.
Вы, надеюсь, не запьете…
В 44 года Достоевский решился на «эксцентрическую», по его словам, вещь - за 4 месяца написать сразу два романа. Первый – «Преступление и наказание» для журнала «Русский вестник», второй – «Игрок» для издателя Стелловского. С последним у писателя был заключен кабальный договор: тот купил право на издание трех томов сочинений Федора Михайловича и одного нового романа. Достоевского по рукам и ногам связывали обязательства перед журналом. И казалось, времени на создание нового шедевра нет. Именно на это и рассчитывал издатель. В случае несоблюдения договора Достоевский терял все доходы с трех томов на девять лет.
Но Достоевский был редкостным трудоголиком: для выполнения задуманного плана у него было все – талант, желание и умение писать. Не хватало только стенографистки. Ему порекомендовали Анну Сниткину – лучшую ученицу курсов скорописи в Петербурге, дочь мелкого петербургского чиновника. 20-летняя девушка в ожидании встречи с Федором Михайловичем провела ужасную ночь: она не спала, ворочаясь с боку на бок и мечтая о том, каким будет ее первое свидание с великим писателем, «таким умным, столько пережившим». Однако первое впечатление от общения оказалось довольно тягостным. В дневнике она записала: «Показался он мне очень странным: каким-то разбитым, убитым, изнеможенным, больным…» – словом, немолодой человек, снедаемый недугами и заботами. Он никак не мог запомнить ее имя, все время сбивался и переспрашивал и вдруг выдал:
«– Я был рад, когда Ольхин (учитель стенографии. – Прим. ред.) предложил мне девушку, а не мужчину, и знаете почему?
– Почему?
– Да потому что мужчина уж, наверное бы, запил, а вы, я надеюсь, не запьете».
В первую встречу диктовать он не смог и попросил явиться вечером – тут уже стал более разговорчив, расспросил девушку о ее жизни, рассказал о себе, причем поразил какой-то болезненной и, казалось бы, неуместной откровенностью.
Начало общению и сближению было положено. В течение последующих 26 дней, пока Достоевский, спеша и комкая текст, надиктовывал Анне «Игрока», стенографистка успела влюбиться: при всех странностях характера Федора Михайловича гениальность его била, что называется, через край и, к чести двадцатилетней девушки, она это почувствовала. Что же касается писателя, то ему оказалось неожиданно хорошо в обществе спокойной и рассудительной Анечки. Впервые в жизни рядом с ним оказалась не хищница, не мучительница, а готовая понять и сострадать душа, помощница…
30 октября Анна закончила стенографировать «Игрока» и последние страницы «Преступления и наказания». Достоевский через полицию вручил «Игрока» нечистоплотному издателю. Другого выхода не было: Стелловский скрылся из города, строго наказав подчиненным: ничего не принимать от писателя, чтобы не позволить ему выполнить договор.
А 8 ноября произошло объяснение в любви. Достоевский сочинил целый рассказ о пожилом художнике, который полюбил молодую девушку, и закончил этот рассказ следующими словами: «…поставьте себя на минуту на ее место… Представьте, что этот художник – я, что я признался вам в любви и просил быть моей женой. Скажите, что вы бы мне ответили?»
«Лицо Федора Михайловича, – вспоминала Анна Григорьевна, – выражало такое смущение, такую сердечную муку, что я, наконец, поняла, что это не просто литературный разговор и что я нанесу страшный удар по самолюбию и гордости, если дам уклончивый ответ. Я взглянула на столь дорогое мне, взволнованное лицо Федора Михайловича и сказала: «Я бы вам ответила, что люблю и буду любить всю жизнь». Так Анна Сниткина, отнюдь не принадлежавшая к числу красавиц, зато умная и добрая, стала женой писателя. Их венчание состоялось в Троицком Измайловском соборе, в Петербурге, 15 февраля 1867 года.
Бегство из балагана
Счастье первых дней закончилось очень быстро. Вскоре после их скромной свадьбы неожиданно для Анны Григорьевны раскрылось, что ее муж тяжело болен падучей болезнью. «Мы делали «свадебные визиты», – вспоминала Анна, – вечер (мы) поехали провести у моей сестры. Весело поужинали... Федор Михайлович был чрезвычайно оживлен и что-то интересное рассказывал моей сестре. Вдруг он прервал на полуслове свою речь, побледнел, привстал с дивана и начал наклоняться в мою сторону. Я с изумлением смотрела на его изменившееся лицо. Но вдруг раздался ужасный, нечеловеческий крик... Впоследствии мне десятки раз приходилось слышать этот «нечеловеческий» вопль, обычный у эпилептика в начале приступа. И этот вопль меня всегда потрясал и пугал. Но тогда, к моему удивлению, я нисколько не испугалась, хотя видела припадок эпилепсии первый раз в жизни...»
Через несколько месяцев после свадьбы скончался брат Достоевского Михаил. И все его семейство во главе с безутешной вдовой Эмилией переехало к писателю. Ситуация обострялась наличием крайне вредного пасынка Паши (сына первой жены). Семейный очаг превратился в балаган. В доме всегда толпились племянники, приходили какие-то родственники, все клянчили деньги. Однажды Достоевский холодным декабрьским днем вернулся в легком осеннем пальто, в котором страшно мерз. Заложить шубу его уговорили Эмилия и Паша, которым в очередной раз понадобились деньги. Но намного больше, чем корыстные интересы новоявленных родственников, ее пугало другое: родственники всеми силами старались убедить Федора Михайловича, что молодой жене скучно со стариком. Она решила во что бы то ни стало спасти свой брак. Единственным выходом из положения было – увезти Достоевского куда-нибудь подальше от назойливых приживалов. Куда-нибудь за границу. В своем дневнике Анна писала: «Чтобы спасти нашу любовь, необходимо хоть на два-три месяца уединиться… Я глубоко была убеждена, что тогда мы с мужем сойдемся на всю жизнь и никто нас более не разлучит. Но откуда нам взять денег на эту столь необходимую поездку? – раздумывала я, и вдруг одна мысль промелькнула у меня в голове: «А что, не пожертвовать ли мне ради поездки всем своим приданым?» Мой план – заложить все мои вещи». Она отдала в залог новую мебель, рояль, меха, золотые и серебряные вещи, выигрышные билеты. И чета Достоевских отправилась в Европу.
Полоса несчастий
Уезжали на несколько месяцев, а вернулись через четыре года. «За это время произошло много радостных событий в нашей жизни, и я буду вечно благодарить Бога, что он укрепил меня в желании уехать за границу. Там началась для нас с мужем новая, счастливая жизнь», – писала Анна. Отчасти это было правдой. Только на пути к счастью им пришлось преодолеть многое: безденежье, нужду, болезнь и тяжелый характер бывшего каторжника Достоевского… Из дневника Анны Григорьевны мы узнаем, что когда супруги были в Дрездене, Федор Михайлович получал последние, перед окончательным разрывом, письма от прежней возлюбленной Аполлинарии Сусловой, и письма эти попали в руки Анны Григорьевны. «Мне было холодно, я дрожала и даже плакала, – пишет она. – Я боялась, что старая привязанность возобновится и что любовь его ко мне исчезнет. Господи, не посылай мне такого несчастья. Я была ужасно опечалена. Как подумаю об этом, у меня сердце кровью обольется! Господи, только не это, мне слишком тяжело будет потерять его любовь». Другою тяжкою скорбью для четы Достоевских была смерть 3-месячного первенца 24 мая 1868 года. И поистине тяжелым крестом для них стала страсть Достоевского к игре.
Исцеление игрока
Достоевский брал их общие деньги, проигрывал, слезно просил простить его, на следующий день все повторялось заново… О пагубной страсти Федора Михайловича свидетельствуют дневниковые записи Анны и письма супругов друг другу.
«Прошло недели три нашей дрезденской жизни, – пишет Анна Достоевская, – как однажды муж заговорил о рулетке (мы часто с ним вспоминали, как вместе писали роман «Игрок») и высказал мысль, что если бы в Дрездене он был теперь один, то непременно бы съездил поиграть на рулетке... Я стала уговаривать мужа поехать в Гамбург на несколько дней...»
«Аня, милая, друг мой, жена моя, прости меня, не называй меня подлецом! – писал Достоевский Анне 12 мая 1867 года. Из Гамбурга – в Дрезден. – Я сделал преступление, я все проиграл, что ты мне прислала, все, все, до последнего крейцера, вчера же получил и вчера проиграл. Аня, как я буду теперь глядеть на тебя, что скажешь ты про меня теперь! Один твой суд мне и страшен! Можешь ли, будешь ли ты теперь меня уважать!.. Ведь этим весь брак наш поколебался. (...) Я так верил в небольшой выигрыш... теперь, после такого урока, я вдруг сделался совершенно спокоен за мою будущность. Теперь работа и труд, работа и труд, и я докажу еще, что я могу сделать!..Аня, только бы любви твоей мне не потерять».
И снова дневниковая запись Анны – 7 июля 1867 года в Баден-Бадене: «За обеды не заплачено за 3 дня, а завтра придется платить за квартиру, но чем?.. Федя заложил по дороге свое обручальное кольцо за 20 франков, но, как назло, не взял ни одного удара... полежал несколько времени очень грустный и пошел на рулетку, взяв с собою мое обручальное кольцо».
26 июля 1867 года она пишет: «В 12 часов пришел Josel (портной, принимавший в заклад одежду. – Ред.), Федя отдал ему свой фрак, жилет и брюки и пальто... Федя отправился на рулетку, где и проиграл (четыре флорина)... сегодня (он) был в удивительно смешливом состоянии, все время хохотал ужасно. Мы всегда так: когда у нас горе, то мы с ним хохочем, как сумасшедшие».
Находясь в Женеве, 6 ноября 1867 года Анна получает письмо от Достоевского из Саксон ле Бен: «Аня, милая, бесценная моя, я все проиграл, все, все! О, ангел мой, не печалься и не беспокойся! Будь уверена, что теперь настанет наконец время, когда я буду достоин тебя и не буду более тебя обкрадывать, как скверный, гнусный вор! Теперь роман, один роман спасет нас!.. Никогда, никогда я не буду больше играть...».
4 декабря 1867 года Анна Григорьевна делает в дневнике такую запись: «Ходила закладывать два шелковых платья, получив деньги, сказала, что будто бы это прислала мне мама...»
Что бы ни случилось в их жизни, ни тени попрека или разочарования не увидел на лице жены Федор Михайлович за четыре года на чужбине и в конце концов понял, какое сокровище рядом с ним. В эти годы он и полюбил Анну всем сердцем: «Если б вы знали, что жена для меня теперь значит! Я ее люблю, и она говорит, что счастлива!»
Любовь превозмогла все, даже пагубную страсть Достоевского к игре. Глядя на свою святую жену, он вдруг раз и навсегда бросил играть. Анна Достоевская писала: «Конечно, я не могла сразу поверить такому громадному счастью, как его охлаждение к игре на рулетке. Ведь он много раз обещал мне не играть и не в силах был исполнить своего слова. Однако счастье это осуществилось, и это был действительно последний раз... он внезапно и навсегда исцелился».
Снишься даже днем
Анна вернулась из Европы другим человеком: уверенной в себе, счастливой женщиной, матерью двоих детей – дочери Любы и сына Феди. Она стала вести финансовые дела мужа, причем делала это столь блестяще, что Достоевскому наконец-то удалось выплатить долги. Она была для него всем: издателем, банкиром, корректором, стенографисткой, женой, любовницей и матерью. Их брак стал союзом людей, понимающих друг друга, друг другу доверяющих, одинаково смотрящих на вещи и, что немаловажно, слиянием не только душ, но и тел – достаточно взглянуть на простодушно-страстные письма Федора Михайловича к жене.
Достоевский – Анне Достоевской. Из Эмса (куда он уехал для лечения 4 июня 1874 года) – в Старую Руссу:
«Анька, идол мой, милая, честная моя…, не забудь меня. А что идол мой, Бог мой – так это так! Обожаю каждый атом твоего тела и твоей души, и цалую всю тебя, всю...»
«(...) письмо твое до того меня тронуло, что я чуть не заплакала. Как я благодарна тебе и как я счастлива твоим письмом. Дорогой мой, я горжусь твоей любовью чрезвычайно, но часто думаю, что совсем не заслужила такой любви. Я такая обыкновенная женщина, золотая середина, с мелкими капризами и требованиями и имеющая разве одно достоинство, что искренно и беззаветно вас всех люблю четверых. И вдруг меня любит самый великодушный, благородный, чистый, честный, святой человек!»
«Приеду, зацалую тебя. А ты мне снишься не только во сне, но и днем. ...Я убедился, Аня, что я не только люблю тебя, но и влюблен в тебя и что ты единая моя госпожа, и это после 12 лет! Да и в самом земном смысле говоря, это тоже так, несмотря на то, что ведь, уж конечно, ты изменилась и постарела с тех пор, когда я тебя узнал еще девятнадцати лет. Но теперь, веришь ли, ты мне нравишься и в этом смысле несравненно более, чем тогда. Это бы невероятно, но это так... Цалую тебя... в мечтах моих всю... взасос...»
Они прожили 14 счастливых лет – до того дня, когда у Федора Михайловича случился разрыв легочной артерии. Перед смертью он взял жену за руку и прошептал в последний раз, что любит ее.
«До» и «после»
За 14 лет жизни с Достоевским Анна Григорьевна испытала немало обид, тревог и несчастий, но никогда не жаловалась на свою судьбу. Она всем жертвовала для супруга, взяла на себя обязанности секретарши и казначея, переписывала его романы, была их первым читателем и критиком и корректором, не спала ночами, чтоб выслушать новую главу или проект нового произведения, утешала его во время припадков тоски, болезни, страха смерти, безропотно сносила взрывы его ревности и придирки. Это был настоящий подвиг, и она себя ему посвятила, как идут в монахини – до конца.
Толстой сказал про Анну Григорьевну: «Многие русские писатели чувствовали бы себя лучше, если бы у них были такие жены, как у Достоевского».
Жизнь этой удивительной женщины четко поделена на «до» и «после». 20 лет Аня Сниткина прожила до встречи с Достоевским. Вся оставшаяся жизнь, 14 лет рядом с Достоевским и 37, посвященных его памяти, – была после. Анна Григорьевна пережила четырех царей, была современницей трех революций. Весной 1917 года она уехала с внуками и невесткой из голодного Петрограда в Адлер, затем перебралась в Ялту. Временами, когда отступали приступы лихорадки, пыталась работать. 21 июня 1918 года ее не стало. В памяти людей она осталась воплощением идеальной жены гения. И олицетворением чуда всепоглощающей любви.