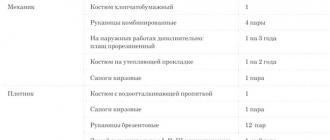Детские рассказы о родине. Лучшие рассказы для детей о родине
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц) [доступный отрывок для чтения: 1 страниц]
Составитель С. Ф. Дмитренко
Родной край. Произведения русских писателей о Родине
Родителям, учителям и любознательным школьникам
Эта книга не заменяет, а существенно дополняет традиционные хрестоматии и сборники по литературному чтению. Поэтому вы не найдёте здесь многих знаменитых произведений, постоянно перепечатывающихся и включённых в названные книги. К счастью, русская литература неисчерпаемо богата, и расширять свой круг чтения можно бесконечно, было бы увлечение.
В этой небольшой книге представлены живописные картины нашей родины – от Киева, колыбели восточнославянской цивилизации, до Тихого океана, от Белого моря до Кавказа. По сути, вы получаете удивительную возможность совершить захватывающее путешествие во времени и увидеть многие края и места нашей родины такими, какими они были около полутора столетий назад. Вашими надёжными проводниками будут русские писатели и поэты – подлинные таланты, мастера слова.
В эпоху всеобщего распространения Интернета и лёгкости получения посредством его любой справки и пояснения мы решили обойтись без систематических комментариев к текстам и подробных биографических справок о писателях. Кому-то из читателей они могут понадобиться, кому-то – нет, но во всяком случае каждый школьник получает прекрасную возможность убедиться, что самостоятельный поиск толкований непонятных слов и выражений в Интернете не менее увлекателен, чем знаменитые «стрелялки» и тому подобные аттракционы.
Почти все прозаические произведения мы по понятным причинам вынуждены давать в небольших отрывках, впрочем увлекательных, так что хочется надеяться: у школьников появится возможность прочитать их полностью, а творчество выдающегося русского писателя и этнографа, автора знаменитой книги-словаря «Крылатые слова» Сергея Васильевича Максимова (1831–1901) станет для них радостным открытием и чтением на всю жизнь!

Иван Никитин
Русь
Под большим шатром
Голубых небес -
Вижу – даль степей
Зеленеется.И на гранях их,
Выше тёмных туч,
Цепи гор стоят
Великанами.По степям в моря
Реки катятся,
И лежат пути
Во все стороны.Посмотрю на юг -
Нивы зрелые,
Что камыш густой,
Тихо движутся;Мурава лугов
Ковром стелется,
Виноград в садах
Наливается.Гляну к северу -
Там, в глуши пустынь,
Снег, что белый пух,
Быстро кружится;Подымает грудь
Море синее,
И горами лёд
Ходит по морю;И пожар небес
Ярким заревом
Освещает мглу
Непроглядную…Это ты, моя
Русь державная,
Моя родина
Православная!Широко ты, Русь,
По лицу земли
В красе царственной
Развернулася!У тебя ли нет
Поля чистого,
Где б разгул нашла
Воля смелая?У тебя ли нет
Про запас казны,
Для друзей – стола,
Меча – недругу?У тебя ли нет
Богатырских сил,
Старины святой,
Громких подвигов?Перед кем себя
Ты унизила?
Кому в чёрный день
Низко кланялась?На полях своих,
Под курганами,
Положила ты
Татар полчища.Ты на жизнь и смерть
Вела спор с Литвой
И дала урок
Ляху гордому.И давно ль было,
Когда с Запада
Облегла тебя
Туча тёмная?Под грозой её
Леса падали,
Мать сыра земля
Колебалася,И зловещий дым
От горевших сел
Высоко вставал
Чёрным облаком!Но лишь кликнул царь
Свой народ на брань -
Вдруг со всех концов
Поднялася Русь.Собрала детей,
Стариков и жён,
Приняла гостей
На кровавый пир.И в глухих степях,
Под сугробами,
Улеглися спать
Гости нaвеки.Хоронили их
Вьюги снежные,
Бури севера
О них плакали!..И теперь среди
Городов твоих
Муравьём кишит
Православный люд.По седым морям
Из далёких стран
На поклон к тебе
Корабли идут.И поля цветут,
И леса шумят,
И лежат в земле
Груды золота.И во всех концах
Света белого
Про тебя идёт
Слава громкая.Уж и есть за что,
Русь могучая,
Полюбить тебя,
Назвать матерью,Стать за честь твою
Против недруга,
За тебя в нужде
Сложить голову!

Владимир Бенедиктов
Москва
Близко… Сердце встрепенулось;
Ближе… ближе… Вот видна!
Вот раскрылась, развернулась, -
Храмы блещут: вот она!
Хоть старушка, хоть седая,
И вся пламенная,
Светозарная, святая,
Златоглавая, родная
Белокаменная!
Вот – она! – давно ль из пепла?
А взгляните: какова!
Встала, выросла, окрепла,
И по-прежнему жива!
И пожаром тем жестоким
Сладко память шевеля,
Вьётся поясом широким
Вкруг высокого Кремля.
И спокойный, величавый,
Бодрый сторож русской славы -
Кремль – и красен и велик,
Где, лишь божий час возник,
Ярким куполом венчанна
Колокольня Иоанна
Движет медный свой язык;
Где кресты церквей далече
По воздушным ступеням
Идут, в золоте, навстречу
К светлым, божьим небесам;
Где за гранями твердыни,
За щитом крутой стены,
Живы таинства святыни
И святыня старины.
Град старинный, град упорный,
Град, повитый красотой,
Град церковный, град соборный
И державный, и святой!
Он с весёлым русским нравом,
Тяжкой стройности уставам
Непокорный, вольно лёг
И раскинулся, как мог.
Старым навыкам послушный,
Он с улыбкою радушной
Сквозь раствор своих ворот
Всех в объятия зовёт.
Много прожил он на свете.
Помнит предков времена,
И в живом его привете
Нараспашку Русь видна.Русь… Блестящий в чинном строе
Ей Петрополь – голова,
Ты ей – сердце ретивое,
Православная Москва!
Чинный, строгий, многодумной
Он, суровый град Петра,
Полн заботою разумной
И стяжанием добра.
Чадо хладной полуночи -
Гордо к морю он проник:
У него России очи,
И неё судьбы язык.
А она – Москва родная -
В грудь России залегла,
Углубилась, вековая.
В недрах клады заперла.
И вскипая русской кровью
И могучею любовью
К славе царской горяча,
Исполинов коронует
И звонит и торжествует;
Но когда ей угрожает
Силы вражеской напор,
Для себя сама слагает
Славный жертвенный костёр
И, врагов завидя знамя,
К древней близкое стене,
Повергается во пламя
И красуется в огне!
Долго ждал я… грудь тоскою -
Думой ныне голова;
Наконец ты предо мною,
Ненаглядная Москва!
Дух тобою разволнован,
Взор к красам твоим прикован.
Чу! Зовут в обратный путь!Торопливого привета
Вот мой голос: многи лета
И жива и здрава будь!
Да хранят твои раскаты
Русской доблести следы!
Да блестят твои палаты!
Да цветут твои сады!
И одета благодатью
И любви и тишины
И означена печатью
Незабвенной старины,
Без пятна, без укоризны,
Под наитием чудес,
Буди славою отчизны,
Буди радостью небес.
Начало 1838

Алексей Хомяков
Киев
Высоко передо мною
Старый Киев над Днепром,
Днепр сверкает под горою
Переливным серебром.Слава, Киев многовечный,
Русской славы колыбель!
Слава, Днепр наш быстротечный,
Руси чистая купель!Сладко песни раздалися,
В небе тих вечерний звон:
«Вы откуда собралися,
Богомольцы, на поклон?»– «Я оттуда, где струится
Тихий Дон – краса степей».
– «Я оттуда, где клубится
Беспредельный Енисей!»– «Край мой – теплый брег Евксина!»
– «Край мой – брег тех дальних стран,
Где одна сплошная льдина
Оковала океан».
– «Я от матушки Москвы».– «Дик и страшен верх Алтая,
Вечен блеск его снегов,
Там страна моя родная!»
– «Мне отчизна – старый Псков».– «Я от Ладоги холодной».
– «Я от синих волн Невы».
– «Я от Камы многоводной».
– «Я от матушки Москвы».Слава, Днепр, седые волны!
Слава, Киев, чудный град!
Мрак пещер твоих безмолвный
Краше царственных палат.Знаем мы, в века былые,
В древню ночь и мрак глубок,
Над тобой блеснул России
Солнце вечного восток.И теперь из стран далеких,
Из неведомых степей,
От полночных рек глубоких -
Полк молящихся детей -Мы вокруг своей святыни
Все с любовью собраны…
Братцы, где ж сыны Волыни?
Галич, где твои сыны?Горе, горе! их спалили
Польши дикие костры;
Их сманили, их пленили
Польши шумные пиры.Меч и лесть, обман и пламя
Их похитили у нас;
Их ведёт чужое знамя,
Ими правит чуждый глас.Пробудися, Киев, снова!
Падших чад своих зови!
Сладок глас отца родного,
Зов моленья и любви.И отторженные дети,
Лишь услышат твой призыв,
Разорвав коварства сети,
Знамя чуждое забыв,Снова, как во время оно,
Успокоиться придут
На твоё святое лоно,
В твой родительский приют.И вокруг знамён отчизны
Потекут они толпой,
К жизни духа, к духу жизни,
Возрождённые тобой!
<Ноябрь 1839>

Пётр Вяземский
Степь
Бесконечная Россия
Словно вечность на земле!
Едешь, едешь, едешь, едешь,
Дни и вёрсты нипочём!
Тонут время и пространство
В необъятности твоей.Степь широко на просторе
Поперёк и вдоль лежит,
Словно огненное море
Зноем пышет и палит.Цепенеет воздух сжатый,
Не пахнёт на душный день
С неба ветерок крылатый,
Ни прохладной тучки тень.Небеса, как купол медный,
Раскалились. Степь гола;
Кое-где пред хатой бедной
Сохнет бедная ветла.С кровли аист долгоногой
Смотрит, верный домосед;
Добрый друг семьи убогой,
Он хранит её от бед.Шагом, с важностью спокойной
Тащут тяжести волы;
Пыль метёт метелью знойной,
Вьюгой огненной золы.Как разбитые палатки
На распутии племён -
Вот курганы, вот загадки
Неразгаданных времён.Пусто всё, однообразно,
Словно замер жизни дух;
Мысль и чувство дремлют праздно,
Голодают взор и слух.Грустно! Но ты грусти этой
Не порочь и не злословь:
От неё в душе согретой
Свято теплится любовь.Степи голые, немые,
Всё же вам и песнь, и честь!
Всё вы – матушка-Россия,
Какова она ни есть!

Степан Шевырёв
Ока
Много рек течёт прекрасных
В царстве Руси молодой,
Голубых, златых и ясных,
С небом спорящих красой.
Но теперь хвалу простую
Про одну сложу реку:
Голубую, разливную,
Многоводную Оку.
В нраве русского раздолья
Изгибается она:
Городам дарит приволья
Непоспешная волна.
Ленью чудной тешит взоры;
Щедро воды разлила;
Даром кинула озёры -
Будто небу зеркала.
Рыбакам готовит ловли,
Мчит тяжёлые суда;
Цепью золотой торговли
Вяжет Руси города:
Муром, Нижний стали братья!
Но до Волги дотекла;
Скромно волны повела, -
И упала к ней в объятья,
Чтоб до моря донесла.

Поликсена Соловьёва
Петербург
Город туманов и снов
Встаёт предо мною
С громадой неясною
Тяжких домов,
С цепью дворцов,
Отражённых холодной Невою.
Жизнь торопливо бредёт
Здесь к цели незримой…
Я узнаю тебя с прежней тоской,
Город больной,
Неласковый город любимый!
Ты меня мучишь, как сон,
Вопросом несмелым…
Ночь, но мерцает зарёй небосклон…
Ты весь побеждён
Сумраком белым.

Лукьян Якубович
Урал и Кавказ
Заспорили горы Урал и Кавказ.
И молвил Урал: «Мир ведает нас!
Богат я и златом, богат серебром,
Алмазом, и яшмой, и всяким добром;
Из недр моих много сокровищ добыто
И много сокровищ покуда в них скрыто!
Богатую подать я людям плачу:
Я жизнь их лелею, сребрю, золочу!
Кавказу ль досталось равняться со мной:
Он нищий и кроет от нищих разбой!»
– Молчи ты, презренный! – воскликнул
Кавказ. -
Я врач, правоверный; мир ведает нас!
Богатства рождают болезни, пороки,
Людей исцеляют Кавказские токи;
Я жителей дольних, недужных целю;
Я жителей горных, могучих люблю:
Одним я здоровье и жизнь обновляю,
Другим – их приволье и мир сохраняю;
Я в древности первый дал Ною приют:
За то меня знают, и любят, и чтут!

Сергей Максимов
(Из книги «Год на севере»)
Поездка в Соловецкий монастырь
<…> Крепкий ветер гнал нас все вперёд скоро и сильно. Сильно накренившееся на бок судно отбивало боковые волны и разрезало передние смело и прямо. Выплывет остров и начнёт мгновенно сокращаться, словно его кто тянет назад; выясняется и отходит взад другой – решительная груда огромных камней, набросанных в замечательном беспорядке один на другой, и сказывается глазам вслед за ним третий остров, покрытый мохом и ельником. На острове этом бродят олени, завезённые сюда с кемского берега, из города, на все лето. Олени эти теряют здесь свою шерсть, спасаются от оводов, которые мучат их в других местах до крайнего истощения сил. Здесь они, по словам гребцов, успевают одичать за все лето до такой степени, что трудно даются в руки. Ловят их тогда, загоняя в загороди и набрасывая петли на рога, которые успевают уже тогда нарости вновь, сбитые животными летом. Между оленями видны ещё бараны, тоже кемские и тоже свезённые сюда с берега на лето.
Едем мы уже два часа с лишком. Прямо против нашего карбаса, на ясном, безоблачном небе, из моря выплывает светлое маленькое облачко, неясно очерченное и представляющее довольно странный, оригинальный вид. Облачко это, по мере дальнейшего выхода нашего из островов, превращалось уже в простое белое пятно и всё-таки – по-прежнему вонзённое, словно прибитое к небу.
Гребцы перекрестились.
– Соловки видны! – был их ответ на мой спрос.
– Вёрст ещё тридцать будет до них, – заметил один.
– Будет, беспременно будет, – отвечал другой.
– Часам к десяти вечера, надо быть, будем! (Мы выехали из Кеми в три часа пополудни.)
– А пожалуй, что и будем!..
– Как не быть, коли всё такая погодка потянет. Берись-ка, братцы, за вёсла, скорей пойдет дело, скорее доедем.
Гребцы, видимо соскучившиеся бездельным сидением, охотно берутся за вёсла, хотя ветер, заметно стихая, всё ещё держится в парусах. Вода стоит самая кроткая, то есть находится в том своём состоянии, когда она отливом своим умела подладиться под попутный ветер. Острова продолжают сокращаться, судно продолжает качать, и заметно сильнее по мере того, как мы приближаемся к двадцатипятиверстной салме, отделяющей монастырь от последних островов из группы Кузовов. Наконец мы въезжаем и в эту салму. Ветер ходит сильнее; качка становится крепче и мешает писать, продолжать заметки. Несёт нас вперёд необыкновенно быстро. Монастырь выясняется сплошной белой массой. Гребцы бросают вёсла, чтобы не дразнить ветер. По-прежнему крутятся и отлетают прочь с пеной волны, уже не такие частые и мелкие, как те, которые сопровождали нас между Кузовами. Налево, далеко взад, остались в тумане Горелые острова. На голомяни, вдали моря направо, белеют два паруса, принадлежащие, говорят, мурманским шнякам, везущим в Архангельск треску и палтусину первосолками…
Набежало облако и спрыснуло нас бойким, крупным дождём, заставившим меня спрятаться в будку. Дождь тотчас же перестал и побежал непроглядным туманом направо, затянул от наших глаз острова Заяцкие, принадлежащие к группе Соловецких.
– Там монастырские живут, церковь построена, при церкви монах живёт, дряхлый, самый немощный: он и за скотом смотрит, он и с аглечкими спор имел, не давал им скотины. Там-то и козёл тот живет, что не давался супостатам в руки…
Так объясняли мне гребцы.
По морю продолжает бродить взводень, который и раскачивает наше судно гораздо сильнее, чем прежде. Ветер стих; едем на вёслах. Паруса болтаются то в одну сторону, то в другую, ветер как будто хочет установиться снова, но какой – неизвестно. Ждали его долго и не дождались никакого. Взводень мало-помалу укладывается, начинает меньше раскачивать карбас, рябит уже некрутыми и невысокими волнами. Волны эти по временам нет-нет, да и шибнут в борт нашего карбаса, перевалят его с одного боку на другой, и вдруг в правый борт как будто начало бросать камнями, крупными камнями; стук затеялся сильный. Гребцы крепче налегли на весла, волны прядали одна через другую в каком-то неопределённом, неестественном беспорядке. Море на значительное пространство вперёд зарябило широкой полосой, сталась на нём словно рыбья чешуя, хотя впереди и кругом давно уже улеглась вода гладким зеркалом.
– Сувоем едем, на место такое угодили, где обе воды встретились: полая (прилив) с убылой (отливом). Ингодь так и осилить его не сумеешь, особо на крутых, а то и тонут, – объясняли мне гребцы, когда, наконец, прекратились эти метанья волн в килевые части карбаса. Мы выехали на гладкое море, на котором уже успел на то время улечься недавний сильный взводень.
Монастырь кажется всё яснее и яснее: отделилась колокольня от церквей, выделились башни от стены, видно ещё что-то многое. Заяцкие острова направо яснеются так же замечательно подробно. Мы продолжаем идти греблей. Монастырь всецело забелел между группою деревьев и представлял один из тех видов, которыми можно любоваться и залюбоваться. Вид его был хорош, насколько может быть хороша группа каменных зданий, и особенно в таком месте и после того, когда прежде глаз встречал только голые, бесплодные гранитные острова и повсюдное безлюдье и тишь. В общем, монастырь был очень похож на все другие монастыри русские. Разница была только в том, что стена его пестрела огромными камнями, неотёсанными, беспорядочно вбитыми в стену словно нечеловеческими руками и силою. Пестрота эта картинностью и – если так можно выразиться – дикостью своею увлекла меня. Прихвалили монастырскую ограду и гребцы мои.
В половине десятого часа монастырь был верстах в двух, на которые обещали всего полчаса ходу. Ровно в десять часов мы уже идём Соловецкой губой между рядом гранитных корг с несметным множеством деревянных крестов. Теми же крестами уставлены и все три берега, развернувшиеся по сторонам. В губе стоят ладьи и мелкие суда; могут, говорят, подходить к самой монастырской пристани самые крупные суда – до того глубока губа!
<…> По прибрежью бродят лошади с колокольчиками на шее; ходят инвалидные солдаты; на причалившей ладье шевелится люд православный; из-за ограды белеются монастырские церкви и несётся звонкий благовест, отдающийся долгим эхом. Правее архангельской гостиницы зеленеет осиновый лес, левее – берёзки, и видятся низенькие белые столбики второй ограды. Дальше сверкает неоглядною, бесконечною гладью море. Чайки продолжают кричать по-прежнему невыносимо тоскливо, у пристани белеет парусок – монахи ловят сельдей на сегодняшнюю трапезу. Солнышко весело светит и разливает приятную, увлекающую теплоту.
Я вышел из номера и пошёл бродить подле ограды.
Тут, на прибрежье губы, выстроены две часовни: одна Петровская, на память двукратного посещения монастыря Петром Великим, другая Константиновская, на память посещения монастыря великим князем Константином Николаевичем. Вблизи их стоит гранитный обелиск на память и с подробным описанием бомбардирования монастыря англичанами. <…>
Прямо против монастырских ворот находилась третья часовня, называемая Просфоро-Чудовою.
– На этом месте, – объясняли мне монахи, – новгородские купцы обронили просфору, которую дал им праведный отец наш Зосима. Пробегала мимо собака, хотела есть, но огонь, исшедши из просфоры, попалил её.
В версте от монастыря четвёртая часовня, Таборская, построена на том месте, где погребены умершие и убитые из московского войска, осаждавшего монастырь с 1667 по 1677 год.
Поводом к восстанию соловецких старцев, как известно, послужило исправление патриархом Никоном церковных книг. В 1656 году вновь исправленные книги присланы были в монастырь Соловецкий. Старцы, зная уже о московских бунтах и распрях, а равно и о том, что сам исправитель (некогда монах соловецкий) находится под царским гневом, присланных из Москвы книг не смотрели, а, запечатав их в сундуки, поставили в оружейной палате. Церковные службы отправлялись по старым книгам. В 1661 году из Москвы прислано было множество священников для обращения старцев к раскаянию. Московское правительство думало делать благо, но сделало ошибку. <…>
Осматривая настоящее состояние монастыря и вникая во все подробности его внутреннего и внешнего устройства, почти на каждом шагу встречаем имя св. митрополита Филиппа, бывшего здесь с 1548 года по 1566 год игуменом. В эти осьмнадцать лет он успел сделать многое, что до сих ещё пор имеет всю силу материального своего значения. Поставленный в исключительное положение, любимец грозного царя, щедрого на подарки и милостыню, сам сын богатого отца из старинного боярского рода Колычевых, св. Филипп не стеснял себя в материальных средствах для того, чтобы удовлетворять всем своим стремлениям и помыслам. Он исключительно посвятил деятельность на то, чтобы остров Соловецкий, до того времени сильно запущенный, сделать возможно удобным для обитания: прорыл канавы, вычистил сенокосные луга и увеличил их в числе, провёл через леса, горы и болота дороги, устроил для больной братии больницу, учредил по возможности лучшую и здоровую пищу, внутри монастыря, подле сушила, устроил каменную водяную мельницу и для неё провёл воду из 52 дальних озёр главного Соловецкого острова, в братской и общей кухне устроил колодезь, в который проведена из Святого озера вода через подземную трубу под крепостною стеною. Помпа колодезя этого зимою подогревается нарочно устроенною печью. Другая печь приготовляет теперь в один раз до 200 хлебов. При многолюдстве богомольцев в печь эту ставят две квашни в день, хлеб день отлёживается, на другой день поедается весь. Остатки едят рабочие, остатки же этих остатков превращаются в сухари. Прежде было обыкновение давать каждому богомольцу по широкому ломтю на дорогу, теперь это, говорят, вывелось из употребления. В квасной запасается 50 бочек по 200 ведер каждая.
Сверх всего этого, св. Филипп умножил домашний рогатый скот и на островах Муксалмах выстроил для него особый коровий двор. Он же развёл на острове лапландских оленей, которые живут там и до настоящего времени; выстроил просторные соборные церкви и огромную трапезу, вмещающую сверх тысячи человек гостей и братии. Близ монастыря сделал насыпи и разные машины к облегчению трудов работников, построил кирпичные заводы, заменил старинные чугунные плиты – клепала, била – колоколами, правителям поморских волостей, тиунам, слугам и доводчикам назначил жалованье, и пр., и пр.
Монастырь и в настоящее время находится в таком состоянии, что не нуждается во многом; только пшеница, вино, рожь и некоторое количество соли для монастыря покупное, а всё почти остальное он имеет своё. При лёгком даже взгляде, монастырь поражает необъятным богатством. Не заглядывая в сундуки его, которые, говорят, ломятся от избытка серебра, золота, жемчугов и других драгоценностей, легко видишь, что сверх годичного расхода на братию у него остаётся ещё огромный залишек, который пускается в рост на проценты. <…>
Торговля производится всюду, чуть ли не во всех монастырских углах: на паперти Анзерского скита продают лубочный вид этого скита, на Анзерской горе Голгофе (в скиту же) продают вид Голгофского скита, и везде кое-какие книги, и везде стихи монаха. Можно купить сапоги из нерпичьей кожи, можно купить и широкий монашеский пояс из той же кожи, довольно хорошо выделанной в самом монастыре. В самом же монастыре пишутся и иконы, шьётся платье не только на монахов, но и на штатных служителей, обязанных чёрными и более трудными работами. Большая половина рабочих живёт по обету. Обеты дают они при случае опасностей, которыми так богато негостеприимное Белое море. Тюлений промысел, называемый выволочным, соблазнительный по богатству добычи, опасный по отправлению, губит много людей. Зверя бьют на дальних льдинах; льдины эти часто отрываются ветрами и выволакиваются в море вместе с промышленниками. Счастливые из них прибиваются к острову Сосновцу или к Терскому берегу. Они-то и дают, в благодарность за спасение, обет бесплатно работать на монастырь три – пять лет.
Большая часть уносится в океан на неизбежную гибель.
В монастыре вылавливается морской зверь, вытапливается его сало, выделывается его шкура. Есть невода для белуг, есть сети для нерпы и бельков. В монастырскую губу приходит в несметном числе лучший сорт беломорских сельдей, небольших, нежных мясом, жирных. Только крайне плохой засол, какая-то запущенность этого дела мешают пускать их в продажу. Выловленные сельди летом уходят на братскую уху, выловленные осенью частию потребляются, частию идут впрок на зиму. Полотно для нижнего монашеского белья не покупное: оно сносится богомольными женщинами с разных концов огромной России; они же приносят и нитки. Коровы для молока, творогу и масла в монастыре свои; бараны, живущие на Заяцком острову, дают шерсть для зимних монашеских тулупов и мясо для трапезы штатных монастырских служителей в скоромные дни. Лошадей монастырь имеет также своих. Между монахами и штатными служителями есть представители всякого рода мастерств: серебряники, слесари, медники, оловянишники, портные, сапожники, резчики. Все другие мастерства, не требующие особенных познаний, разделены на послушания; таковы: рыбаки, продавцы, пекаря, мельники, маляры.
В этом отношении монастырь представляет целое отдельное общество, независимое, сильное средствами и притом значительно многолюдное. Ежегодные обильные вклады и правильное хозяйство обещают монастырю впереди несчётные годы. <…>

Внимание! Это ознакомительный фрагмент книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента ООО "ЛитРес".
Из этих исторических рассказов, юные читатели узнают о переломных моментах истории Русской земли, о ратных делах и гражданских подвигах замечательных россиян.
Владимир Соловьёв «Первый царь»
Ни в одном городе не было, наверное, столько храмов Божьих, сколько в Москве в XVI веке. Из-за красной кремлёвской стены выше причудливых дворцовых башенок тянули шеи многоглавые соборы с залитыми солнцем золотыми куполами. За торговыми рядами, там, где от края до края сплошь лепились избы, в которых жил люд, что победнее, среди берёстовых и тесовых крыш посверкивали белой жестью, выставляли напоказ облезлые макушки главы скромных церквей, каких было большинство в огромном пёстром городе. И как начинали бить колокола на тысячах московских звонниц, их могучая музыка перекрывала все другие звуки: тяжкие, гулкие удары заполняли весь город, уходили в землю, в небо, отдавались на каждой улице, каждой площади.
Но в тот час, когда уличный певец и музыкант Тимоха, малый лет двадцати с густой курчавой бородой, облюбовал местечко около постоялого двора и, лихо ударив по струнам своей домры, стал озорно петь, в Москве было непривычно тихо. Даже там, где вдоль торговых лавок народу обычно скапливалось уймища и откуда доносился постоянный галдёж, было малолюдно, не слышалось ни криков, ни шума.
Однако задорная домра Тимохи и его заливистая песня быстро привлекли любопытных. Сначала подошёл один, потом второй, и, глядь, уже человек двадцать собрались.
Только вот слова в его песне больно смелые. Пел Тимоха про самого царя, про Ивана Васильевича, и про недобрые его дела. А всяк знал: с царём да царёвыми слугами шутки плохи. Недаром прозвал народ государя московского Иваном Грозным.
Лют был царь, жесток и скор на расправу. Уже и счёт потеряли тому, сколько людей было загублено и насмерть замучено по его злой воле. Казни, пытки и наказания иногда устраивались день за днём. Погромы и кровопролитие никого не удивляли. В большом страхе жили люди, боялись провиниться, как-нибудь ненароком вызвать царский гнев. Опасались сказать лишнее слово: вдруг кто-то из царёвых наушников и ябедников окажется поблизости и донесёт. И тогда не сносить головы: схватят, посадят в застенок (тюрьму) — и поминай как звали! Будут бить, истязать, а могут и жизни лишить.
Ещё в детстве будущий царь Иван приводил в ужас окружающих своей жестокостью. Любил мучить животных, выбрасывал вниз из окна высокого терема собак и наблюдал, как они, в кровь разбившиеся, умирая, жалобно скулили и ползали, уже не в силах встать на лапы. А то была у юного Ивана другая забава. Зимой в санях, а летом в карете, приказывая кучеру гнать лошадей во весь опор, он носился по улицам Москвы и давил народ, громко смеясь над тем, как обезумевшие люди рассыпаются в разные стороны, и наслаждаясь стонами и криками пострадавших.
Подрастая и взрослея, Иван делал всё, чтобы укрепить свою власть. Ему уже мало было оставаться великим князем. Он хотел большего и решил, по примеру правителей других крупных держав, короноваться, или венчаться на царство, а говоря иначе — стать царём и обладать огромной и сильной властью.
Коронование пышно и торжественно прошло в Кремле, в Успенском соборе, при великом скоплении людей, в присутствии иностранных послов и Отцов Церкви.
До Ивана Васильевича царей в России не было. Он стал первым, и народ ждал, что теперь в стране будет больше порядка, меньше неправды и несправедливости, простым людям заживётся лучше, а царь-батюшка, когда надо, за них заступится, никому не даст в обиду. Да и сам царь, выйдя на Красную площадь, полную народа, обещал, что положит конец беспорядкам, позаботится о правосудии и защите россиян от притеснителей, кто бы они ни были.
И первое время действительно начали происходить благие перемены. Царь распорядился принимать жалобы и просьбы от всех недовольных и без вины пострадавших, помогать им и строго наказывать их обидчиков. Люди радовались и надеялись, что и дальше так будет, что ни одно дурное дело не останется без внимания, что на всякого злодея в Москве у царя найдётся управа.
По всему было видно, что сильная царская власть идёт России на пользу. Страна богатела, раздвигала границы, торговать в Московию охотно приезжали купцы со всех концов света. Росли города. Российское войско надёжно обороняло державу от чужеземных захватчиков и одерживало победы над враждебными соседями, мешавшими усилению и расширению Российского государства.
Однако недолго народ славил и восхвалял царя. Получив невиданную власть, Иван Васильевич ничего так не боялся, как эту власть потерять. Всех и каждого он готов был подозревать в злоумышлении против себя, в кознях и заговорах. Всюду царю мерещились коварные соперники, которые только и ждут, чтобы расправиться с ним, занять его место, отнять у него трон и царский венец.
И настало в стране трудное, тяжкое время, когда государевы стражники рыскали по городам и сёлам, выискивая измену, грабя и убивая тех, на кого падало малейшее подозрение в непочтительном отношении к царю. Главными недругами Иван Грозный считал выходцев из богатых и знатных семей, которые вели своё происхождение от первых русских князей, начиная с Рюрика. К ним Иван питал особую злобу, потому что они не уступали ему ни «породой», ни богатством. Он был уверен, что любой из них втайне только и мечтает, как бы покончить с ним и стать вместо него царём.
Много князей и бояр — потомков старинных родов — были замучены и убиты в те годы. Но беда не миновала и незнатных людей. Немало их поплатились жизнью ни за что ни про что. Грозный считал, что его власть будет крепка, если все будут жить в постоянном страхе, в полном послушании, покорности, боясь даже помыслить о сопротивлении, а тем более — о другом государе. И потому на российской земле особые отряды, тщательно отобранные из верных царю людей и лишь ему подчинявшиеся, так же как в своё время монголы, убивали и разоряли мирных жителей, жгли их дома, не щадя ни старых ни малых. Одеты эти государевы слуги были во всё чёрное и вооружены до зубов. Их отличительными знаками были собачья голова и метла. Это означало, что они, подобно псам-ищейкам, вынюхивают, откуда царю угрожает опасность, и готовы не раздумывая вцепиться в горло врагам и недоброжелателям Ивана Грозного и, словно сор, вымести всех, кто не желает служить ему верой и правдой.
Однажды царь обвинил в измене весь старинный Новгород. Большой и богатый город был разгромлен, а тысячи новгородцев убиты — утоплены в реке Волхов.
Шёпотом передавали россияне друг дружке историю о том, как Иван Грозный в гневе убил своего старшего сына за то, что тот посмел перечить отцу. И так же тайно, хоронясь чужих ушей, рассказывали, как страшно поступил царь со строителями Покровского собора — дивного
храма на Красной площади, походившего на свисающий с неба пёстрый, яркий ковёр.
Призвал будто бы Иван зодчих — тех, по чьим замыслам и под чьим началом возводился собор, и спросил:
«А что, мастера, можете ль вы сделать храм ещё краше и лучше этого?»
«Можем. Только прикажи, государь», — ответили зодчие, низко склонившись перед царём.
И тогда Иван Грозный приказал выколоть славным умельцам ясные очи, чтобы ни в какой другой земле не было храма, равного по красоте и величию Покровскому в Москве.
А человека-птицу Никиту, об удали, смелости, уме и отваге которого долго ходили легенды, царь приказал бросить с большой высоты в глубокую яму, где торчали острые ножи, пики и сабли. И, пронзённый насквозь, он истёк кровью и умер в невыносимых муках, так и не поняв, в чём его вина и за что он предан смерти.
Что же сделал бедняга? Чем прогневал царя?
Заветной мечтой этого человека было подняться в небо и полететь по-журавлиному. И смастерил он себе крылья, поднялся на самый верх шестидесятидвухметровой церкви Вознесения в подмосковном селе Коломенское, прыгнул оттуда и на глазах изумлённого народа стал парить, подобно орлу или соколу, и целый и невредимый опустился на землю.
Прослышал про то царь и сказал:
«Человек должен не летать, а по земле ходить». И повелел казнить храбреца. Так погиб, наверное, первый известный в истории России воздухоплаватель, который сумел пролететь над землёй и изведать ни с чем не сравнимое чувство полёта.
Может быть, половина того, что говорили про Ивана Грозного, это всего лишь выдумки, сказки, а может, и быль — кто знает. Только достоверно известно, что крови по его злой воле пролилось много и много жизней было погублено.
Страшно, боязно было слушать его песни, но люди стояли, не расходились. Некоторые и вовсе, расталкивая толпу, пробирались вперёд, чтобы не прозевать ничего, не пропустить ни слова.
А Тимоха долго бы ещё играл и пел, да тут какой-то глазастый мастеровой увидел, что из постоялого двора, стараясь остаться незамеченным, выскользнул и заспешил куда-то хозяин- кабатчик.
Все тут же кинулись врассыпную. Ведь если поймают за то, что слушал такие дерзкие песни про царя, живым не быть — запорют до смерти или на растерзание собакам бросят.
«И ты, мил человек, беги, спасайся! — уже издали крикнул мастеровой замешкавшемуся Тимохе. — Тебе-то первому несдобровать. Зальют, изверги, свинца в глотку, и тогда разве что на том свете споёшь. Бери ноги в руки — и ходу!»
После этих слов Тимоха понёсся так, что только пятки засверкали да пыль за ним столбом поднялась. И вовремя успел! Едва скрылся, как к тому самому месту, где он развлекал народ, прискакали всадники в чёрном. Но Тимохи уже и след простыл. Погоня за ним ничего не дала. Пришлось государевым слугам возвращаться ни с чем.
Олег Тихомиров «Слово о защите Москвы и о подвиге Минина и Пожарского»
СТРАШНАЯ ВЕСТЬ
Чистым майским днём 1591 года по дороге на Москву спешил гонец. Ой как спешил!
С чёрной вестью торопился гонец. Убит в Угличе малолетний царевич Дмитрий — младшенький сынок царя Грозного, Ивана Васильевича.
Целый день уж скакал гонец, а перед взором его всё гудела толпа, схватившая убийц окаянных, и горела на плитах каменных алая кровь Дмитрия. Да ещё всё слышалось гонцу, как стонал-надрывался колокол.
Подлых убийц схватила толпа разъярённая. Царевича положили во храме, а в Москву порешили гонца отправить, чтоб доложил обо всём царю Фёдору. Тот приходился братом убитому Дмитрию.
Что ж теперь будет, что станется? Кому на Руси царствовать? Царь Фёдор болезненный и «умом слабый». Всеми делами государства Московского правит боярин Борис Годунов, свою волю царю навязывает, о своей лишь выгоде печётся. У царя нет детей, нет наследника. Потому на Руси считали — царевичу Дмитрию престол достанется. Ан вот как вышло!
Не попал гонец к царю. Борис Годунов расставил на углицкой дороге своих людей. Схватили они гонца, привели к Годунову.
— Подай сюда грамоту, — велел Борис.
— Для царя та грамота писана, — возразил гонец.
Сдвинул Годунов брови, пригрозил:
— Али жить тебе, дурак, надоело?
Испугался гонец, вынул грамоту. Утаил её Борис от царя, а взамен другую написал. Сообщалось в ней, будто Дмитрий сам ненароком закололся ножом, когда играл в «тычку» с ребятами малыми. Заплакал царь и сказал:
— Да будет на то воля Божия!
Не зря о нём говорили «умом и духом младенец».
А в народе пошёл слух, будто убийцы, пойманные в Угличе, перед смертью повинились: по приказу, мол, Годунова зарезан был царевич Дмитрий.
Послал Борис в Углич верных людей. Двести угличан казнены были, а ещё кому язык отрезали, кого в темницу бросили, кого в ссылку сослали.
Не любили бояре Годунова. Но в тот год поперёк его воли стать они не решились: очень уж силён Борис, очень уж много у него власти.
Посадский люд заволновался было, но притих. Большой смуты не вышло.
БЕДА ЗА БЕДОЙ
— Хладно мне... Хладно, — молвил, умирая, царь Фёдор.
Его укрыли мехами, в печь подкинули дров.
Бояре спросили:
— Кому, государь, приказываешь царство?
— Как Богу угодно, так и будет, — тихо ответил он.
Первым среди бояр считали Годунова. Он хоть и не сидел на троне, но и так был правителем государства. Все это хорошо понимали — и бояре, и дворяне, и мелкие люди посадские.
А Борис в Новодевичий монастырь уехал. Хотел, чтобы упрашивали его на царство стать. Знал, приспело время ему государем сделаться. Дождался!
И вот созвали Земский собор (собрание). Все с похвалами говорили о Годунове, а коли так — его и выбрали царём. Послали сообщить об этом Борису — а Годунов от престола отказывается.
Толпа народа потекла к Новодевичьему просить Бориса, чтобы царство принял. Сам патриарх Иов, глава Русской церкви, пришёл Годунова упрашивать. Толпа на колени стала. Наконец Борис согласился.
Поначалу-то царь милостив был. Даже налоги поубавил. Только что народу эта подачка! Всё равно что полю выжженному — ковш воды.
А тут и вовсе беды надвинулись. С 1601 года неурожаи грянули. Горше всего Москве пришлось с её торговым да ремесленным людом. Цены на хлеб поднялись. С голоду помирать стали посадские. И крестьянам не легче: лебеду да кору ели. Всё зерно в закромах дворян да бояр, а у крестьян-то — пустым-пусто.
Три года длился «великий глад». В народе закипели волнения. Крестьяне пошли войной на помещиков. Запылали усадьбы дворянские. Направил тогда царь отряды карательные во Владимир, Медынь, Коломну и Ржев. Глядь — а и в самой Москве «низы возмутилися».
Дальше — хуже. Кинулся Годунов мелкий люд усмирять — бояре зашевелились. Повсюду стали мерещиться царю заговоры. Принялся он выведывать от холопов боярских, не замышляют ли их господа зла какого. Начались побои, и пытки, и казни.
Все были недовольны Борисом, да тут и новое лихо приспело: пошла молва, будто жив царевич Дмитрий и готовится согнать Годунова с престола, а в Угличе-то, мол, убит не царевич, а кто-то другой.
ПЕРВЫЙ ЛЖЕДМИТРИЙ
Злодея-самозванца было велено поймать и немедля к царю доставить.
Кто он такой? Откуда взялся?
Царевичем Дмитрием назвал себя бывший монах Гришка Отрепьев. Был он «грамоте горазд», и одно время патриарх Иов взял его к себе для «книжного письма». Иной раз приводил Отрепьева патриарх к царю во дворец. Зорко приглядывался там Гришка ко всему, прислушивался, «на ус наматывал», с боярами в разговоры вступал. Как-то, напившись вина, стал похваляться монахам, что, мол, будет он скоро в Москве царём. Хотели схватить Отрепьева за такие речи. Но добрые люди помогли бежать.
Объявился он через год в Польско-Литовском государстве как царевич Дмитрий. Некоторое время жил он у князя Адама Вишневецкого, который хорошо понимал, как выгодно полякам поддержать Лжедмитрия. Знал Вишневецкий и о неладах Годунова с боярами, и о войнах крестьянских. «Самая пора, — думал польский князь, — скинуть Бориса, а царём в Москве поставить своего человека».
Вот почему Вишневецкий повёз самозванца в столицу Польско-Литовского государства — в Краков.
По дороге остановились они в Самборе у воеводы Юрия Мнишека. Принимали Лжедмитрия с почётом. В честь «царевича» обед был устроен. Здесь-то и приглянулась ему Марина — красавица дочь воеводы.
«Жалко, что ль! — усмехался Гришка. — Небось не из своего кармана. Не самим нажито».
Когда самозванец вернулся в Самбор, между Лжедмитрием и Мнишеком был составлен договор: станет «царевич» русским царём — получит Марину в жёны и одарит её Псковом и Новгородом, самому же воеводе достанутся земля Смоленская и часть Северской.
Начались сборы войска. К самозванцу шли охотники поживиться грабежами да насилием, готовые продать свою саблю тому, кто больше заплатит.
В октябре войско Лжедмитрия выступило.
Один за другим без боя сдавались «царевичу» русские города. Крестьяне и мелкий служилый люд верили в «хорошего» царя и ждали Дмитрия: уж он-то избавит от крепостной неволи, уж он-то накажет бояр-лиходеев. Воеводы, опасаясь гнева народного, распахивали перед Отрепьевым городские ворота, встречали его хлебом-солью.
Да и многие бояре переходили на сторону самозванца, хоть и знали, что убит настоящий царевич. Ведь для них главным-то было Годунова скинуть. О тайной же сделке Лжедмитрия с Сигизмундом никто не ведал.
В апреле 1605 года нежданно умер Борис. Царём стал сын его Фёдор. Он послал против самозванца воевод-бояр. Но те сдали армию «законному наследнику».
В Москве боярская знать переворот устроила: царь Фёдор и его мать были убиты, свергнут был и патриарх Иов, что стоял за Годунова.
С пышной свитой, в окружении польских военачальников въехал Лжедмитрий в Москву.
Напрасно ждал народ добрых перемен в своей жизни. Не избавил «хороший царь» от крепостной неволи, не издал указов справедливых. Зато сам жил в Москве припеваючи. Во дворце его днём и ночью гремела музыка. На пирах вино рекой лилось. Поляков в Москву без счёта понаехало. Над обычаями русскими насмехалися, а чуть что не так — саблю выхватывали.
Возмущало это горожан. На обидчиков стали косо глядеть. С «лысыми головами» (так прозвали москвичи поляков — у шляхтичей было принято брить голову) то и дело на улицах драки вспыхивали.
На рассвете 17 мая 1606 года поплыл над Москвой набатный звон. Самозванец, только отпраздновавший свою свадьбу с Мариной Мнишек, решил было, что это в его честь бьют колокола. Но звон был тревожный...
Разметав охранников, кинулась толпа во дворец с криками: «Бей его! Руби его!» Выпрыгнул Гришка в окно, да был найден. Тут самозванцу и конец настал.
Тело Лжедмитрия сожгли, а пепел забили в пушку и выстрелили в ту сторону, откуда он пришёл.
РАЗГОВОР С КОРОЛЁМ
В Кракове стоял дождливый день. Тучи висели так низко, что казалось, вот-вот в них вопьются высокие шпили соборов.
Но не оттого был сумрачен король Сигизмунд. Он слушал доклад князя Адама Вишневецкого, вернувшегося из Москвы.
— Ваше величество, — после короткой заминки продолжал Вишневецкий, — в тот день был убит не только самозванец.
— Кто же ещё?
— Больше четырёхсот поляков.
— Так много?
— Вся Москва поднялась, ваше величество.
— Как ты спасся?
— Помог Василий Шуйский.
— Русский царь?
— В тот день он ещё не был царём.
— Он стал им через два дня.
— Он не был избран. Сторонники Шуйского прокричали толпе на площади его имя с Лобного места. И всё.
— Любопытно, — Сигизмунд невесело усмехнулся. — Дальше?
— Шуйский помог скрыться не только мне, но и Юрию Мнишеку, и Марине.
— Хорошо, что он не помог бежать самозванцу, — позволил себе пошутить король.
Князь Адам Вишневецкий принуждённо засмеялся:
— Самое интересное, ваше величество: не успел Василий Шуйский занять престол, как в народе заговорили, что «жив царь Дмитрий Иванович», а на многих боярских воротах было ночью понаписано, что «царь Дмитрий повелевает разграбить дома изменников». Василий Шуйский с большим трудом подавил восстание.
— Да... — помолчав, произнёс король. — На Руси мёртвых царей любят больше, чем живых.
— Особый случай, ваше величество. Царевич Дмитрий — пострадавший. На Руси жалеют пострадавших.
— Не очень-то они пожалели самозванца.
— Ваше величество, он вёл себя слишком глупо.
Сигизмунд не очень-то опечалился, — он и раньше уже не раз думал о том, чтобы заменить Отрепьева новым Лжедмитрием.
МОСКВА В ОСАДЕ
Летом 1608 года войско Лжедмитрия II подошло к Москве. Столица была хорошо укреплена. Кремль и Китай-город (торговая часть центра, которая прилегала к Кремлю с восточной стороны) были обнесены мощными каменными стенами с бойницами. Вторая белокаменная стена охватывала полукругом Большой посад (эту часть Москвы стали называть Белый город). А слободы, что находились в ближних окрестностях Москвы, защищала третья, деревянная, стена толщиной «в три добрые сажени».
Был в Москве и свой Пушечный двор, работавший «с большой исправностью». Русские мастера снабжали армию мортирами, пищалями и дробовиками. Москвичи сами изготавливали порох (зелье). Государев двор, где изготавливали порох, размещался в Успенском овраге.
А ещё придумали русские для боя за городом передвижные крепости на санях или колёсах — «гуляй-города». Эти сооружения были защищены толстыми брусчатыми щитами и имели отверстия для стрельбы из «самопалов». В каждом «гуляй-городе» помещалось до десяти стрелков.
Увидев, что взять Москву невозможно, «яко птицу рукой», новый самозванец попытался отрезать столицу от других городов, чтобы затруднить подвоз к ней продовольствия. Свой лагерь Лжедмитрий II устроил на Волоколамской дороге у крутого берега Москвы-реки в селе Тушине (потому его и прозвали Тушинским вором).
Главное русское войско стояло на реке Ходынке и занимало позиции от села Хорошёво до городских стен.
В ночь на 25 июня поляки попробовали напасть на русский лагерь и вначале потеснили москвичей. Но утром большой отряд под началом самого Шуйского отогнал врага за речку Химку.
Прошло несколько месяцев. В Тушине вырос целый город. Войско самозванца всё время пополнялось. Иноземные купцы везли сюда свой товар. Вдоволь снабжался лагерь и за счёт грабежей. Пиры гремели один за другим.
А в Москве в то время «было смутно, и скорбно, и тесно». Не под силу стало тягаться Василию Шуйскому с Тушинским вором. Отступил царь к речке Пресне, а в декабре и вовсе в Москву ушёл.
А настоящие защитники Москвы держались стойко, «с поляками, и с литвой, и с русскими воры билися, не щадя живота своего», хотя во всём «нужду и голод в осаде терпели». Эти воины понимали, что сейчас главный враг — иноземные захватчики.
Крепко отбивался и осаждённый Троице-Сергиев монастырь. Тридцать тысяч поляков окружили его, подводили подкопы, пытались взять приступом. Да сделать ничего не могли. Будто камни, вросли в стену «иноческая братия, старцы, служки и немногие ратные люди, а всего числом три тысячи». Не скинуть их оттуда нипочём. В конце мая 1609 года враг предпринял последнюю попытку взять монастырь штурмом, но был отбит «с великим уроном».
Тогда же тушинская армия «поднялась» на Москву. Навстречу ей вышли ратники с «гуляй- городами». Столкнулись войска на реке Ходынке. Поначалу тушинцы одолевать стали, прорвались сквозь «гуляй-города». Но подоспели свежие силы, они ударили по кавалерии иноземцев с двух сторон, опрокинули её и «топтали» до самой Ходынки. Изрядно была потрёпана и вражеская пехота. В руки московских воинов попали брошенные врагом пушки.
Осада Москвы продолжалась. Но о сдаче столицы защитники и слышать не хотели.
СИГИЗМУНД III ИДЁТ ВОЙНОЙ
А между тем уже с осени 1608 года и в северных землях русских, и в Поволжье, и во Владимирском крае поднялся народ против Лжедмитрия II и поляков.
Забеспокоился в Кракове король, опять вызвал к себе князя Адама Вишневецкого.
— Восстала чернь в Вологде и Устюге, — докладывал Вишневецкий, — в Юрьеве и Балахне.
Сигизмунд смотрел холодно, колюче.
— Оставили мы Кострому... — продолжал князь.
Король не выдержал:
— А Москва?! — Сигизмунд впился взглядом в князя. — Полтора года войско торчит в Тушине. Почему не взята Москва?
— Москва, ваше величество, превосходно защищенный город. Таких и в Европе, как это говорится у русских, днём с огнём поискать. К тому же...
— Огнём нужно жечь, выжигать, — перебил король.
— К тому же наш тушинский ставленник...
— Что? — насторожился король.
— Боюсь, он не оправдает надежд, ваше величество.
— Русские уже не верят в «истинного царя»?
— Они не верят в самозванца, ваше величество. В его войске разброд. Если русские приходят к нему, чтобы биться против Шуйского, он посылает их на грабежи. Такое не всем по вкусу, ваше величество. Но больше всех перестарались наши шляхтичи. Иначе как «душегубы» или «злодеи» их теперь на Руси не называют.
Сигизмунд задумался, разглядывая свой алмазный перстень.
— Ты хочешь сказать, без королевского войска там не обойтись?
— Да, ваше величество, но...
Вишневецкий не договорил. Король терпеливо ждал.
—... это же будет война между двумя государствами.
— И ты считаешь, мы не можем пойти на это?
Князь обдумывал, что сказать, но король ответил сам:
— Война давно идёт. Это ясно даже черни в Устюге.
Летом 1609 года Сигизмунд III объявил войну Русскому государству. В конце сентября королевское войско осадило Смоленск. Однако город этот оказался крепким орешком. Надолго застряли здесь поляки. Лишь после двадцатимесячной осады прорвались они за стены Смоленска.
Сигизмунд потребовал, чтобы «тушинские» поляки влились в его войско и бросили самозванца. Тушинский вор, видя, что дела его плохи, переоделся в крестьянское платье «и тайком в навозных санях» сбежал в Калугу. Лагерь его распался.
После бегства Лжедмитрия II кучка тушинских бояр отправила к Сигизмунду под Смоленск послов — «просить в цари московские королевича Владислава». Сигизмунд, чтобы облегчить для сына путь к русскому престолу, послал в Москву войско под командой одного из гетманов. Московская рать была разбита. А оставшегося без войска царя Василия свергли его же подданные.
ПРЕДАТЕЛЬСТВО
Двойная угроза над Москвой нависла. «Пришли поляки и литва» — они стояли уже на хорошёвских лугах у Москвы-реки. И опять появился под столицей Лжедмитрий II, в селе Коломенском. И поляки, и вор всяк для себя взять Москву хотели.
А среди русских бояр неурядицы да распри кипели. Каждый сам на престол царский попасть старался, а соперника оттеснить. Гибель смотрела в глаза Русскому государству, а они лишь о своём благополучии пеклись.
Сказал боярин Шереметев:
— Не от короля Сигизмунда разорение нам грозит. Самое зло великое — от черни, от мужиков да холопов.
Сказал боярин Романов:
— Низкий люд смуту затевает. Без силы польской смуту не подавишь.
Сказал боярин Салтыков:
— В цари нужно просить королевича Владислава, а там видно будет.
Так за спиной народа решали бояре судьбу Русского государства.
Возле Новодевичьего монастыря встретились с польским гетманом боярские послы. Сказали, что готовы избрать королевича русским царём, но при этом...
— Чтоб не решал Владислав ничего важного без совета бояр, без думы Боярской, — начал князь Голицын.
— Чтоб чинов, которые были в Московском государстве, не менял, — добавил князь Мстиславский.
— Чтоб княжеских и боярских родов в чести не понижати, — дополнил боярин Шереметев.
Об одних лишь своих интересах пеклись бояре, о народе ни словца не замолвили. Гетман обещал всё выполнить.
Когда узнал посадский люд про боярский обман, взволновалась Москва.
— Не хотим над нами польских господ! — кричал калашник Фадей с Арбата.
— Убирайтесь прочь, «лысые головы»! — кричал ломовой возчик Афоня с Ордынки.
— Топорами их бей, губителей наших! — кричал ножевник Григорий из Бронной слободы.
На бояр страх напал — стали они просить иноземцев, чтобы те повременили в Москву входить. Однако через несколько дней, ночью, тишком вступили всё-таки поляки в город. Сам гетман поселился в Кремле, в хоромах Бориса Годунова. Войско своё разместил в Китай-городе, у ворот и стен Белого города стражу выставил.
Спохватились бояре, да поздно: нет у них ни «воли своей» в думе Боярской, ни власти.
А простому люду «от поляков и от литвы насильство и обида великая была», вели те себя как захватчики, «всякие товары и съестной харч» силой забирали «безденежно».
А Лжедмитрий II засылал в столицу «смутные» грамоты, писал, что придёт в Москву перебить «поляков, бояр и дворян больших», а людям «низким» дать волю. Грамоты такие многим по душе пришлись.
МОСКВА ВОССТАЛА
А в Москве-то как перед взрывом... Но не бочку с порохом к огню подкатили — то народ кнутами да саблями на присягу королевичу польскому погнали. Да и что бочка с порохом по сравнению с гневом народным! От гнева того запылала земля под ногами захватчиков. И уже в страхе кричали они русским: «Покоритесь!»
Огнём из пушек отвечали Сигизмунду смоляне. Яростно бился с поляками в своём крае рязанский воевода Прокопий Ляпунов. Громил их зарайский воевода князь Дмитрий Пожарский. Патриарх Гермоген рассылал тайные грамоты — освобождал русских людей от присяги Владиславу.
В такое накалённое время был убит в Калуге Лжедмитрий II.
С февраля 1611 года потянулись к Москве отряды со всех сторон государства Русского. И уже не за «хорошего царя» шли они воевать, но за землю родную, за свой стольный град. Шли ополчения из Мурома и Нижнего Новгорода, из Суздаля и Владимира, из Вологды и Углича, из Костромы и Ярославля, из Рязани и Галича.
Насторожились поляки: никому носить при себе ножи не велели, у плотников топоры поотбирали, у ворот городских караулов понаставили, а на каждый воз кидались с обыском — не везёт ли кто в город оружие. Мелкие дрова и те продавать запретили: боялись — народ дубин понаделает. Патриарха Гермогена под стражу взяли. От него потребовали было, чтобы остановил он движение к Москве. Но тот твёрдо ответил, что благословляет «всех против вас стояти и помереть за православную веру».
В Москве то там, то сям вспыхивали «кровавые столкновения» между шляхтой и «чёрными» людьми. И чем ближе подходили к столице отряды русских, тем тревожнее становилось полякам. Изменники-бояре выдали им день московского восстания — 19 марта.
А москвичи, поджидая ополчение, вооружались кто как мог. Во дворах подготавливали сани с поленьями, чтобы при случае перегородить
такими санями улицы — тогда полякам будет трудно перемещаться по городу и приходить на выручку друг другу.
18 марта некоторые отряды ополчения подошли совсем близко к Москве. Вечером через ворота стены, чуть светлеющей в синем сумраке, проник в Белый город отряд Пожарского. Ратники других русских воевод стали в Замоскворечье и у Яузских ворот.
Кремль и Китай-город охватила тишина, нарушали её лишь тяжёлые шаги стражников. Прислушиваясь к этим шагам, совещались меж собой польские военачальники. Решено было выйти навстречу русскому ополчению и, пока не подошли все отряды, разбить его по частям. Только планам этим не суждено было исполниться, потому как и в самой Москве восстал народ.
Началось всё вроде бы с малой «заковыки». Утром по Красной площади проезжало несколько возов. На одном из них сидел ломовой возчик с Ордынки — Афоня. Плечи у Афонюшки — что косая сажень, кулаки у Афонюшки — по пуду весом. Ехал себе Афоня, никого не трогал, а поляки в тот час на башню пушки затаскивали. Пушку тащить — не пирог есть, кому надрываться охота. Как увидели поляки Афонюшку, подбежали:
— Слезай с воза, подсобить надобно.
— А ну вас! — отмахнулся возчик. — Обойдётесь.
Не отстают поляки, за руки Афонюшку тянут.
— Прочь! — рассердился возчик. — Недосуг мне!
Выхватил поляк саблю:
— Ах ты, пёсья кровь!
Не понравилось это Афонюшке, стукнул он крикуна кулаком по темени — тот замертво упал.
Бросились поляки к Афоне. А у того на возу запасная оглобля лежала. Как пошёл ею Афонюшка по вражьим головам гулять! Тут и другие возчики не оплошали, соскочили с возов — да с дубинами к товарищу на выручку. А немцы, наёмники Сигизмундовы, решили — началось восстание. Кинулись на простой народ, на торговцев да на ремесленников. Били без разбора всех «и на площади, и в рядах, и на улицах». Поднялась кругом сеча кровавая. Мужики за топоры схватились, немцы — за мушкеты. Загудела толпа, залпы грянули. А тут и звон набатный всю Москву всколыхнул.
В Белом городе улицы завалили брёвнами. Москвичи стреляли из самопалов с крыш, из окон, через заборы.
Разгорелся бой на Никитской улице, разгорелся на Сретенке.
Мушкетёры хотели было взять Пушечный двор, но пушкари, среди которых находился и князь Пожарский, встретили их прицельным огнём.
Поляки думали прорваться у Яузских ворот, но и там крепкую оборону держала русская рать. Не удалось им пройти и через Замоскворечье, а у Тверских ворот, где были стрелецкие слободы, ударили по захватчикам стрельцы.
Совсем худо стало полякам. И тогда один из шляхтичей закричал:
— Жги дома!
Горящей смолой принялись они поджигать дома. Огонь побежал по деревянным строениям.
Из-за дыма и пламени русским пришлось оставить свои засады.
Ночью захватчики решили выжечь весь Белый город и Скородом.
За два часа до рассвета приступили поджигатели к своему злодейству. Подожжённый с нескольких сторон, город запылал.
Весь следующий день князь Дмитрий Пожарский, укрывшись в небольшом острожке, отбивал нападения поляков. Но к вечеру, «изнемогши от великих ран», упал князь наземь. Так и погиб бы храбрый воин, если бы други надёжные не вынесли его из огня да не сумели доставить в Троице- Сергиев монастырь.
Король Сигизмунд на помощь своему гарнизону послал ещё войско под командой полковника Струся. По сожжённой безмолвной Москве Струсь провёл солдат прямо в Кремль.
Москвичи же покинули столицу. Они ушли навстречу отрядам ополчения.
ЗАХВАТЧИКИ В КОЛЬЦЕ
Минуло ещё несколько дней. Поляки, нёсшие дозор на колокольне Ивана Великого, вдруг приметили, как широкой полосой — будто река откуда хлынула — подступали к городским стенам русские отряды.
Доложили польскому воеводе Гонсевскому. Накинув меховую боярскую шубу, тот сам поднялся на верхнюю площадку колокольни. Долго смотрел.
«А вот и русаки. Движутся!.. — Гонсевский зябко поёжился, поглубже запахнулся в шубу. — О, Дева Мария, что ж им тут надо, в пустой Москве, где лишь ветер свищет среди чёрных головешек?»
Не понять того поляку, не уразуметь.
Пока не подошли все отряды, Гонсевский распорядился, чтобы Струсь во главе семисот всадников вышел навстречу русским и вступил с ними в бой.
Увидев конницу, русские начали рассыпаться по обе стороны от дороги. «Жалкие трусы», — подумал польский воевода и уже ощутил хмельную сладость победы.
Но когда всадники приблизились, бегущей толпы перед ними не было, а на дороге выросли вдруг какие-то сооружения на санях, похожие не то на стену, не то на срубы. Такого Струсю видеть не доводилось.
— Что это? — спросил он у бывалого рыжеусого ротмистра, который не раз уже нюхал порох в боях с «московитами».
— Русская придумка — «гуляй-города». Без пушек их нелегко взять. Лучше всего обойти.
В это время со стороны деревянных сооружений грянули выстрелы.
— В обход! — скомандовал Струсь.
Но конница в несколько рядов была окружена «гуляй-городами». Потеряв до сотни убитыми, поляки еле вырвались из окружения, поскакали назад.
На следующий день подошёл к Москве рязанский воевода Прокопий Ляпунов, да ещё примкнули к нему с казаками атаманы Трубецкой и Заруцкий. Стали они за Симоновым монастырём. Когда же Гонсевский попытался их отогнать, ополченцы так «смело вломились» в ряды захватчиков да устроили им такую рукопашную, что поляки бежали и опомнились лишь в Китай-городе.
После этого русские отряды без препятствия подступили к Белому городу и разместились вдоль его стен.
И у Яузских ворот, и у Покровских, и у Тверских ворот — везде стали ополченцы. Город был взят в кольцо.
Вот ведь как получилось: строили москвичи стены, старались поставить их как можно крепче, а теперь приходилось самим брать эту твердыню.
Да беда-то не в том заключалась. Ратному делу ополченцы научились, и смелости им не занимать.
Но не было в рядах ополченцев единства и согласия. Среди воевод поднялись раздоры да неурядицы.
Поляки воспользовались распрями. Гонсевский приказал подкинуть в казачьи таборы поддельную грамоту за подписью Ляпунова. В грамоте той призывалось после взятия Москвы «бить и топить казаков без пощады». В июле 1611 года казаки позвали Ляпунова к себе «в круг», где он и был убит.
После гибели Ляпунова в ополчении «случился раскол». Из-под Москвы ушли отряды дворянские, крестьянские да посадские. Всё это подорвало силы ополченцев.
Однако ополчение хоть и не могло взять Москву, но связывало захватчикам руки: столица по-прежнему была в кольце.
В сентябре на помощь своему гарнизону король Сигизмунд III послал гетмана Яна Хоткевича.
Тот несколько раз попытался было отогнать от Москвы казаков, но из этого ничего не получилось. Повернул гетман назад в Польшу, ушла с ним и часть гарнизона вместе с Гонсевским.
Главою войска, оставшегося в Кремле, назначили Струся.
ОПОЛЧЕНИЕ МИНИНА И ПОЖАРСКОГО
Осень, осень... Полетел лист с деревьев. Небо тучами подёрнулось.
Да не от туч померкло всё вокруг, а от чёрной печали, от скорбных вестей. Пал после долгой осады Смоленск. Шведы захватили Новгород. Во Пскове очередной «вор» Сидорка появился, царевичем Дмитрием назвался. Подмосковное ополчение распадалось. По южным рубежам пустошили земли татары крымские. Плохо, плохо на Руси!
В сентябре в Нижнем Новгороде по звону соборного колокола стекался на площадь народ. День был будний, и люди с тревогой переглядывались: к чему всех созвали — к добру ли, к худу ли? Но не для вести какой собрали нижегородцев, а была им зачитана грамота из Троице-Сергиева монастыря. Грамота призывала спасти Отечество «от смертной погибели», «быть всем в соединении и стать сообща» против иноземных захватчиков и предателей. Грамота торопила: «Пусть служилые люди без всякого мешкания спешат к Москве».
Загудела толпа, да стихла разом: слово взял земский староста, мясной торговец Кузьма Минин. Уважал народ Минина, был он человек разумный и совестью чист.
— Люди добрые, — начал Кузьма, — про великое разорение земли Русской вы сами знаете. Не щадили злодеи ни старцев, ни младенцев грудных. Коль вправду хотим спасти Московское государство, не будем жалеть ничего: продадим дворы, имущество, наберём людей ратных и будем бить челом тому, кто бы вступился за Русь и был нашим начальником.
Стали нижегородцы сходиться в домах да на улицах, судили-рядили, как быть. Минин появлялся на сходках, толковал с людьми, ободрял. Первым он и пример показал: отдал все свои деньги на создание войска.
Тут и другие горожане примеру последовали. Иной последнее отдавал, только чтобы в стороне не оставаться.
Но, прежде чем скликать людей ратных, нужно было выбрать воеводу. Минин сказал, что нет воеводы лучше, чем князь Дмитрий Михайлович Пожарский. В Пожарском не было ни лишней гордости, ни спеси, он умел ладить с людьми и ни перед кем не величался своими заслугами. Воевода он был искусный, человек надёжный и честный — только такой и мог сослужить Отечеству великую службу. С радостью откликнулся князь Пожарский на призыв Минина. Без промедления стали набирать войско.
Многие города русские посылали в Нижний свои деньги, оружие и припасы разные, отовсюду потянулись в ополчение к Минину и Пожарскому ратные люди. В декабре 1611 года создано было в Нижнем Новгороде и общерусское правительство — «Совет всей земли».
Забеспокоились в Москве поляки. В начале февраля они велели боярам, которые заодно с ними были, «принажать» на патриарха Гермогена, чтобы тот остановил своим словом нижегородское войско. Но Гермоген был твёрд и «на прельщения неподатливый». Не удалось его ни запугать, ни умаслить. В лицо боярам бросил старик такие слова: «Да будут те благословенны, которые идут на очищение Московского государства, а вы, окаянные московские изменники, будьте прокляты!»
В первом ополчении, где теперь оставалось большинство казаков и бывших «тушинцев», опять раздоры пошли. Верх одержали те, кто призывал служить новому самозванцу.
Чтобы помешать второму ополчению, атаман Заруцкий в марте попытался захватить Ярославль: с северных посадов и уездов шло к Минину много ратников. Но не удалась казацкому атаману эта затея. Опередил его князь Пожарский, вовремя привёл ополчение к Ярославлю.
Здесь, на Волге, четыре месяца продолжал собирать князь своё войско, готовился к походу на Москву.
На выручку гарнизону, засевшему в Кремле, король Сигизмунд опять послал подкрепление. Узнав об этом, Пожарский сразу двинул ополчение к столице.
Уже будучи неподалёку от Москвы, в Троице- Сергиевом монастыре, князь отправил в таборы казачьи послов, велел сказать, что ратники на казаков зла не имеют и биться с ними не собираются.
— Пусть разумеют казаки, — напутствовал он своих гонцов, — незачем нам промеж собой впустую кровь проливать. У нас ныне один враг — захватчики.
Однако, едва лишь первые отряды нового ополчения подступили к Москве, атаман Заруцкий бежал из таборов. Князь Трубецкой остался.
20 августа Пожарский разбил свой стан у Арбатских ворот, потому как основная угроза (войско Хоткевича) ожидалась со стороны Смоленской дороги. Чтобы Струсь не мог выйти из Кремля и соединиться с Хоткевичем, Пожарский разместил несколько отрядов по стене Белого города — от Петровских ворот до Никитских и Чертольских ворот (ныне Кропоткинских). В Замоскворечье раскинули таборы казаки. Им в подкрепление Пожарский прислал пять конных сотен.
ТРЁХДНЕВНОЕ СРАЖЕНИЕ
Ой и красивую же армию привёл гетман под стены русской столицы! Есть тут на что взглянуть. Посмотрите на одежды нарядные у польской шляхты и у дворян литовских, посмотрите на коней резвых да на сбрую дорогую, посмотрите на оружие грозное, посмотрите на шрамы боевые у немецких и венгерских наёмников! А пушки, порохом пропахшие! А литавры, ярче солнца блестящие!
Да и сам Ян Карл Хоткевич полководец был прославленный; таких воинов крепких, как шведы, не раз побивал. «А русским-то ополченцам уж куда до шведов!» — считал Хоткевич. И другие его военачальники так же думали. Пан Будило писал Пожарскому: «Лучше ты, Пожарский, отпусти к сохам своих людей». Верно, видом да выучкой уступали полякам русские ратники. И числом их было поменьше: у поляков — двенадцать тысяч, у русских — около десяти.
Утром 22 августа, переправившись через Москву-реку, повёл своё войско Хоткевич в наступление к Чертольским воротам.
— Вперёд, орлы!.. Вперёд!.. — радовался гетман Хоткевич. — Ждут вас награды и слава!
Вот уж и Чертольские ворота. Ворваться бы в них, влететь яростным ветром!
Да не тут-то было! Спешились русские, встали возле укреплённых стен, приготовились к рукопашному бою.
Ещё перед сражением сказал Пожарский короткую речь. Не обещал он ратникам ни лёгкой победы, ни добычи богатой, ни званий почётных.
— Земля Русская, — молвил князь, — ждёт от нас правого дела. Будем же крепко стоять под Москвой и биться до смерти.
Семь часов длился бой. И ружья палили, и сабли сверкали, и «в ножи» воины друг на друга кидались. Туго ополченцам пришлось. У поляков-то сил поболее было. Тем временем казаки Трубецкого смотрели со стороны на битву (стояли они недалеко — у Крымского двора), участия не принимали. Не отпускали они от себя и те конные сотни, что дал им Пожарский.
— Пора, князь, на подмогу идти, — говорили Трубецкому ополченцы.
— Успеется.
Был среди присланных конников и Григорий — ножевник с Бронной слободы. Попробовал он совестить казаков: там, мол, кровь льётся, а вы тут сиднем сидите.
Обидно Григорию. Ну какой же он богатей! Коня ему купили из тех денег, что Минин собирал, а саблю Григорий сам сработал — на то и ножевник он. Подговорил Григорий товарищей, и поскакали они на подмогу по своей воле, без разрешения Трубецкого.
— Стой! — закричали вслед казаки. Да не сдержались — тоже в бой устремились.
Отступил с потерями Хоткевич. Оставил на поле боя тысячу убитых поляков да наёмников. Порванные знамёна в пыли валялись. Лишь брошенные литавры всё так же ярко блестели.
В тыл ополчению попытался ударить из Кремля Струсь. Но вылазка эта не имела успеха. Стрельцы, стоявшие в Белом городе, отогнали поляков назад.
Ночью гетман приказал одному из отрядов пробиться в Кремль и доставить припасы осаждённому гарнизону. Отряду удалось пройти через Замоскворечье и соединиться с кремлёвским гарнизоном, но обоз с продовольствием русские захватили.
23 августа Хоткевич со всем своим лагерем переместился к Донскому монастырю, чтобы опять же через Замоскворечье прорваться в Кремль. Гетману было известно о неладах между казаками и ополчением, и он считал, что Трубецкой не окажет стойкого сопротивления.
Но просчитался Хоткевич. Князь Пожарский, разузнав обо всём от лазутчиков, тоже переставил войска, чтобы защищать Замоскворечье. Теперь он стоял на Остоженке, откуда в любой миг мог переправиться вброд через Москву-реку. Передовые отряды перебросил на правый берег: пешие стрельцы рассыпались у рва по Земляному валу с пушками. Казаки, которые были с Пожарским, стали в острожке там, где Пятницкая с Ордынкой сходятся, — у Климентовской церкви. Этот острожек охранял дорогу, ведшую от
Серпуховских ворот к Плавучему мосту, что соединял Замоскворечье с Китай-городом.
24 августа гетман, пустив в бой все свои силы, занял укрепления Земляного вала и ввёл в город четыреста повозок для осаждённых в Кремле. Но обоз достиг лишь Ордынки: атаки русских ратников не давали ему продвигаться дальше. Венгерские наёмники всё же сумели захватить Климентовский острожек, да на этом и закончилось наступление войск Хоткевича.
Казаки, державшие острожек, хотя и отступили, но недалеко. Залегли, постреливают, смотрят, как поляки в острожек подводы заводят. Случилось так, что меж казаков очутился Севастьян — ткач с Кадашей. Говорит он им:
— Самый бы раз острожек вернуть. Не ровён час, поляки ещё войско подтянут, нам же с вами худо будет.
— Назад подадимся. Лежи. Чего рвёшься?
— Дом тут мой недалече, как не рваться.
— Какой дом? Всё повыжжено.
— Место родное осталось, а избу новую срубим, — отвечает Севастьян. — Гнать надо поляков.
— А наш дом повсюду. Где переночуем, там и дом.
— Понятно: люди вольные. Нынче вы здесь, а назавтра вас и след простыл. Но всё ж неверно говорите. Дом ваш — земля Русская. — И повторил: — Гнать надо поляков.
— Лежи, покуда вставать не велено.
— Чего ждать? Сами острожек отдали, сами и назад возьмём да ещё обоз прихватим.
Поднял-таки Севастьян казаков. Ринулись они на приступ, долго бились и с пехотой венгерской, и с конниками польскими, а всё ж отбили Климентовский острожек. Отступил враг. Одной пехоты семьсот человек на поле брани оставил. Брошены были и все подводы с провизией.
Тем временем князь Пожарский перевёл на правый берег Москвы-реки главные силы. И разыгралось в Замоскворечье сражение на долгие часы. Попеременными были успехи. К тому же казаки Трубецкого то вступали в бой, то уходили.
Уже смеркаться начало, когда в стан к Пожарскому прискакал Минин и попросил дать ему людей «на поляков и литву ударить».
— Бери, Кузьма, кого хочешь, — ответил князь верному соратнику.
Взяв три конные дворянские сотни, Минин переправился через реку и напал с фланга на вражеские роты, что были возле Крымского двора.
Удар этот застал поляков врасплох. Побежали они, смяли своих, внесли сумятицу. Тут обрушились и ополченцы Пожарского на лагерь гетмана, конница врезалась, «тиском» (то есть дружно) пошла пехота. Увидев это, казаки Трубецкого тоже все как один за оружие взялись. Покатилось назад войско Хоткевича.
В три дня Пожарский полностью разгромил прославленного Хоткевича. Лишь четыреста всадников осталось у гетмана от всей армии.
ЗАВЕРШЕНИЕ
Оставалось теперь справиться с теми поляками, которые засели в Китай-городе и Кремле.
Пожарский приказал вести по осаждённым навесную стрельбу из мортир. Полетели через стены «ядры каменные и огненные». Пушки стояли даже у самого Кремля со стороны Москвы-реки.
Поляки сидели без продовольствия и терпели во всём большую «тесноту»: русские перекрыли у них все ходы-выходы. Чтобы не было понапрасну кровопролития, князь Пожарский предложил вражескому гарнизону сдаться.
«Ведомо нам, — писал он, — что вы, сидя в осаде, терпите страшный голод и великую нужду... Теперь вы сами видели, как гетман пришёл и с каким бесчестием и страхом он ушёл от вас, а тогда ещё не все наши войска прибыли... Не ожидайте гетмана. Приходите к нам без промедления. Ваши головы и жизнь будут сохранены. Я возьму это на свою душу и упрошу всех ратных людей. Которые из вас пожелают возвратиться в свою землю, тех пустят без всякой зацепки... Если которые из вас от голоду не в состоянии будут идти, а ехать им не на чем, то, когда вы выйдете из крепости, мы вышлем таковым подводы».
На доброжелательное письмо князя поляки прислали оскорбительный ответ. Они считали, что ратники ополчения, оторванные «от сохи», по-настоящему воевать не могут, и советовали Пожарскому распустить войско: «Пусть холоп по-прежнему возделывает землю, поп пусть знает церковь, Кузьмы пусть занимаются своей торговлей».
— Люди русские, настал час последней битвы московской. Пусть не верят поляки в наше ратное умение, то их дело. Крепки стены Китай-города, да боевой дух воинства нашего ещё крепче. На приступ!
Заиграли призывные трубы, взметнулись на ветру знамёна. Кинулись к стенам Китай-города ратники — по приставным лестницам полезли.
Побежал со всеми и Афонюшка-возчик с Ордынки. Здоров Афоня: в его ручищах сабля острая детской забавой кажется.
— Брось, — кричат ему товарищи, — сабельку да возьми оглоблю, толку больше будет!
Взяли русские Китай-город. Лишь в Кремле поляки остались. Но теперь немедля согласились они на сдачу, о пощаде только упрашивали.
26 октября Пожарский подписал договор, по которому обещал сохранить осаждённым жизнь. На следующее утро все кремлёвские ворота были открыты.
Торжественно вступили в город русские войска. Полки Пожарского шли со стороны Арбата, казаки Трубецкого — от Покровских ворот. Воины двигались «тихими стопами» с победными песнопениями. И весь народ был «в великой радости и весели».
Король Сигизмунд, узнав обо всём, устремил свою армию на Москву. По пути он попытался было захватить Волоколамск, который, по словам русских, в «великом государстве Московском как бы деревенька». Но и Волоколамск оказался не по силам королю. Сигизмунд снял осаду «и пошёл к себе в Польшу с позором».
Так в напряжённых битвах под стенами московскими решалась судьба всей Руси.
А в 1818 году в Москве на Красной площади был установлен памятник двум славным сынам русского народа. Надпись на нём такая: «Князю Пожарскому и гражданину Минину благодарная Россия».
И коли нам с вами случится быть у того памятника, тоже скажем:
— Низкий поклон вам, герои, от потомков.
Рассказы о любви к Родине, даже в чужом краю возникает тоска и очень сильная печаль по Родине.
Евгений Пермяк. Сказка о большом колоколе
Давно уже нет в живых того матроса, который кораблём в Англию прибыл и в городе Лондоне занедужил, а сказка о нём живёт.
Остался русский матрос в городе Лондоне. В хорошую больницу его положили. Провианту, денег оставили:
— Выздоравливай, дружба, и жди свой корабль!
Сказали так корабельные дружки и ушли обратным курсом в родную русскую землю.
Недолго болел матрос. Хорошими лекарствами его лечили. Микстуру там, порошков, капель не жалели. Ну, да и жизнь своё взяла. Архангельских кровей парень — коренных поморских родителей сын. Такого разве болезнью сломишь!
Выписался матрос из больницы. Бушлатик почистил, пуговицы надраил. Ну, и остальным предметам одежды жаркий утюг дал. В гавань отправился — земляков поискать.
— Нет здесь твоих земляков, — говорят ему в гавани. — Исландия третью неделю туманы гонит. Откуда русским парусам в Лондоне быть?
— Не беда, — говорит матрос. — Я глазастый. И на ваших кораблях землячков сыщу.
Сказал так и на английский корабль ступил. Ноги о матик вытер, флагу честь отдал. Представился.
Англичанам это любо. Потому как морской порядок везде один.
— Смотри ты каков! По всей форме моряк. Только жалко, что земляков тебе на нашем королевском корабле не сыскать.
А матрос на это улыбается, ничего не говорит, к грот-мачте направляется.
«Зачем, — думают моряки, — ему наша грот- мачта понадобилась? »
А русский матрос подошёл к ней, погладил её рукой и говорит:
— Здорово, землячка, архангельская сосна!
Очнулась мачта, ожила.
Будто от долгого сна проснулась. Мачтовым русским бором зашумела, янтарной смоляной слезой прослезилась:
— Здравствуй, земляк! Рассказывай, как дома дела.
Переглянулись английские моряки:
— Смотри ты, какой глазастый! Землячку на нашем корабле сыскал.
А матрос тем временем с грот-мачтой задушевные разговоры разговаривает. Какие дома дела, рассказывает, мачту обнимает:
— Ах ты, милая моя, хорошая! Мачтовое ты чудо-дерево. Дух твой род ной-лесной ветры не выдули. Гордость твою шторма не согнули.
Смотрят английские моряки — и борта корабля русскому матросу улыбаются, палуба под его ноги стелется. А он в них родной сердцу узор узнаёт, родные леса и рощи видит.
— Гляди ты, сколько у него земляков! На чужом корабле как дома, — шепчут про себя английские моряки. — И паруса к нему ластятся.
Ластятся к матросу льняные паруса, и конопельные-корабельные канаты-швартовы у его ног извиваются, как к родному льнут.
— А паруса-то к тебе зачем ластятся? — спрашивает капитан. — Они-то ведь в нашем городе Лондоне вытканы.
— Это так, — отвечает матрос. — Только до этого-то они льном-долгунцом на псковской земле росли. Как мне не приголубить их! Да и те же канаты взять. И они ведь у нас четырёх - пятиаршинной коноплёй уродились. Поэтому и к вам пожаловали.
Говорит так матрос, а сам на якоря косится, на пушки поглядывает. В те годы наше железо, наша медь, наш чугун с Уральских гор ходко во многие страны шли: в Швецию, в Норвегию, в Англию.
— Ну до чего ж я в хорошую компанию попал! — радуется матрос.
— Ах, какой ты глазастый, русский матрос! Везде своё родное разглядеть можешь. Дорого, видно, тебе оно.
— Дорого, — ответил матрос и принялся такое про наши края рассказывать, что зыбь на море стихла, чайки на воду сели.
Вся команда заслушалась.
А в это время на главной лондонской колокольне часы отбивать стали. В большой колокол ударили. Далеко его бархатный звон над полями, лесами, реками поплыл и по-над морем пошёл.
Слушает этот звон русский моряк, не наслушается. Даже глаза закрыл. А звон дальше и дальше разносится, на низкой, отлогой волне укачивает. Нет равного ему голоса на всех колокольнях старой Англии. Старик остановится, вздохнёт, девица улыбнётся, дитя стихнет, когда этот большой колокол зазвонит.
Молчат на корабле, слушают. Любо им, что русскому матросу звон ихнего колокола по душе пришёлся.
Тут моряки, смеясь, спрашивают матроса:
— Не земляка ли опять ты в колоколе признал?
А матрос им в ответ:
Удивился английский капитан, как это русский матрос своё родное не только видеть, но и слышать может. Удивился, а про колокол ничего не сказал, хотя он и доподлинно знал, что этот колокол русские мастера в Московии для Англии отливали и русские кузнецы ладный ему язык выковали.
Промолчал корабельный капитан. А по какой причине промолчал, про то сказка молчит. И я помолчу.
А что касаемо большого колокола на самой большой, Вестминстерской, колокольне старой Англии, так он и по сей день русским кованым языком английские часы отбивает. Бархатно отбивает, с московским выговором.
Не всем, конечно, его звон по душам да по ушам, только теперь уж ничего сделать нельзя. Не снимать же колокол!
А сними — так он ещё громче в людской молве благовестить начнёт.
Пускай уж висит, как висел, да с московскими кремлёвскими братьями-колоколами перезванивается, да толкует о голубом небе, о тихой воде,
о солнечных днях... О дружбе.
Михаил Пришвин. Весна света
Ночью снежинки при электричестве рождались из ничего: небо было звёздное, чистое.
Пороша складывалась на асфальте не просто как снег, а звёздочка над звёздочкой, не сплющивая одна другую.
Казалось, прямо из ничего бралась эта редкая пороша, а между тем, как я подходил к своему жилищу в Лаврушинском переулке, асфальт от неё был седой.
Радостно было моё пробуждение на шестом этаже.
Москва лежала, покрытая звёздной порошей, и, как тигры по хребтам гор, везде ходили по крышам коты. Сколько чётких следов, сколько весенних романов: весной света все коты лезут на крыши.
И даже когда я спустился вниз и проехал по улице Горького, радость весны света меня не оставила. При лёгком утреннике в лучах солнца была та нейтральная среда, когда пахнет самая мысль: подумаешь о чём-нибудь, и этим самым запахнет.
Воробей спустился с крыши Моссовета и утонул по шею в звёздной пороше.
Он до нашего прихода успел хорошо выкупаться в снегу, а когда ему из-за нас пришлось улетать, то от ветра его крыльев разлетелось
вокруг столько звездочек, что кружок почти в целую большую шапку почернел на асфальте.
— Видели? — сказал один мальчик трём девочкам.
И дети, глядя вверх на крышу Моссовета, стали дожидаться второго слёта весёлого воробья.
Весна света согревается полднями.
Пороша к полудню растаяла, и радость моя притупилась, но не исчезла, нет!
Как только замёрзли к вечеру лужи, запах вечернего мороза опять вернул меня к весне света.
Так вечерело, но голубые вечерние звёзды не показались в Москве: всё небо оставалось голубым и медленно синело.
На этом новом голубом фоне в домах там и тут вспыхивали лампы с разноцветными абажурами; никогда этих абажуров в сумерках не увидишь зимой.
Возле полузамёрзших луж от растаявшей звёздной пороши всюду слышался детский восторженный крик, детская радость наполняла весь воздух.
Так дети в Москве начинают весну, как в деревне начинают её воробьи, потом грачи, жаворонки, в лесах тетерева, на реках утки и кулики на болотах.
От детских весенних звуков в городе, как всё равно от птичьих криков в лесах, мои ветхие одежды с тоской и гриппом вдруг свалились.
Настоящий бродяга при первых весенних лучах и вправду часто бросает своё тряпьё при дороге...
Лужи быстро везде замерзали. Одну я попробовал ткнуть ногой, и стекло разлетелось вдребезги с особенным звуком: др... др... др...
Бессмысленно про себя, как это бывает у стихотворцев, стал я повторять этот звук, прибавляя подходящие гласные: дра, дря, дри, дриан.
И вдруг из этой бессмысленной дряни вышла сначала любимая моя богиня Дриана (душа дерева, леса), а потом и Дриандия, желанная страна, в которую ещё утром при звёздной пороше начал я своё путешествие.
Я так этому обрадовался, что несколько раз вслух, пробуя на звучность, повторил, ни на кого вокруг не обращая внимания:
— Дриандия.
— Что он сказал? — спросила одна девочка у другой позади меня. — Что он сказал?
Тогда все девочки и мальчики с другой лужи бросились догонять меня.
— Вы что-то сказали? — спросили они меня все разом.
— Да, — ответил я, — слова мои были такие: «Где тут Малая Бронная?»
Какое разочарование, какое уныние произвели мои слова: оказалось, что мы и стояли-то как раз на этой Малой Бронной.
— Мне кажется, — сказала одна маленькая девочка с плутовскими глазами, — вы что-то совсем другое сказали.
— Нет, — повторил я, — мне нужна Малая Бронная, иду к моим хорошим знакомым в дом номер тридцать шесть. До свиданья!
Они остались в кружке, недовольные, и, наверно, сейчас обсуждали между собой эту странность: было что-то вроде как бы Дриандия, и оказалось — обыкновенная Малая Бронная!
Отойдя от них на значительное расстояние, я остановился у фонаря и громко им крикнул:
— Дриандия!
Услышав это во второй раз, уверившись, бросились дети с дружным криком:
— Дриандия, Дриандия!
— Что это? — спросили они.
— Страна вольных сванов, — ответил я.
— А кто они?
— Это, — начал я спокойно рассказывать, — люди не очень большие ростом, но сильно вооружённые.
Мы вошли под чёрные, старые деревья Пионерских прудов.
Большие матовые электрические фонари, как луны, показывались нам из-за деревьев. Закрайки пруда были покрыты льдом.
Одна девочка попробовала стать, лёд затрещал.
— Да ты с головой уйдёшь! — крикнул я.
— С головой? — засмеялась она. — Как это — с головой?
— С головой, с головой! — повторили ребята.
И, прельщённые возможностью уйти с головой, бросились на лёд.
Когда же всё кончилось благополучно и никто с головой не ушёл, дети опять явились ко мне, как к старому своему приятелю, и попросили ещё рассказать о маленьких, но сильно вооружённых людях Дриандии.
— Люди эти, — сказал я, — всегда держатся по двое. Один отдыхает, а другой везёт его на салазках, и оттого время даром у них не пропадает. Они во всём помогают друг другу.
— А зачем они сильно вооружены?
— Они должны охранять от врагов свою родину.
— А почему они на салазках, у них вечная зима?
— Нет, у них всегда, как вот теперь у нас, — ни лето и ни зима, у них всегда весна света: лёд под ногами хрустит, иногда проваливается, и тогда бедные сваны уходят под лёд с головой, другие их тут же спасают. Голубые звёзды вечером у них не показываются: небо у них такое голубое, светлое, и, как только вечер, везде в окнах загораются разноцветные лампочки...
Я им рассказывал то самое, что бывает в Москве весной света, как сейчас, и никто из них не догадывался, что моя волшебная Дриандия находится тут же, в Москве, и что так скоро за эту Дриандию мы все пойдём на войну.
Ирина Пивоварова. Мы пошли в театр
Мы пошли в театр.
Мы шли парами, и всюду были лужи, лужи, лужи, потому что только что прошёл дождь.
И мы прыгали через лужи.
Мои новые синие колготки и мои новые красные туфли стали все в чёрных брызгах.
И Люськины колготки и туфли тоже!
А Сима Коростылева разбежалась и прыгнула в самую середину лужи, и весь подол нового зелёного платья стал у нее чёрный! Сима стала его выжимать, и платье стало как мочалка, всё мятое и мокрое внизу. И Валька решила ей помочь и стала платье разглаживать руками, и от этого на Симином платье образовались какие-то серые полосы, и Сима очень расстроилась.
Но мы сказали ей:
И Сима перестала обращать внимание и снова стала прыгать через лужи.
И всё наше звено прыгало — и Павлик, и Валька, и Бураков. Но лучше всех, конечно, прыгал Коля Лыков. Брюки у него были мокрые до колен, ботинки совершенно промокли, но он не унывал.
Да и смешно было унывать от таких пустяков!
Вся улица была мокрая и блестела от солнца.
Над лужами поднимался пар.
Воробьи трещали на ветках.
Красивые дома, все как новенькие, только что выкрашенные в жёлтый, светло-зелёный и розовый цвет, глядели на нас чистыми весенними окнами. Они радостно показывали нам свои чёрные резные балкончики, свои белые лепные украшения, свои колонночки между окнами, свои разноцветные плиточки под крышами, своих вылепленных над подъездами весёлых танцующих тётенек в длинных одеждах и серьёзных печальных дяденек с маленькими рожками в кудрявых волосах.
Все дома были такие красивые!
Такие старинные!
Такие не похожие один на другой!
И это был Центр. Центр Москвы. Садовая улица. И мы шли в кукольный театр. Шли от самого метро! Пешком! И прыгали через лужи! Как я люблю Москву! Мне даже страшно, как я ее люблю! Мне даже плакать хочется, как я ее люблю! У меня всё в животе сжимается, когда я смотрю на эти старинные дома, и как люди куда-то бегут, бегут, и как несутся машины, и как солнце сверкает в окнах высоченных домов, и машины визжат, и орут на деревьях воробьи.
И вот позади все лужи — восемь больших, десять средних и двадцать две маленьких, — и мы у театра.
А дальше мы были в театре и смотрели спектакль. Интересный спектакль. Два часа смотрели, даже устали. И на обратном пути все уже торопились домой и не захотели идти пешком, как я ни просила, и мы сели в автобус и до самого метро ехали в автобусе.
Рассказы для детей о Родине, о родной земле, о родном крае. Рассказы для чтения в школе, для семейного чтения. Рассказы Михаила Пришвина, Константина Ушинского, Ивана Шмелёва, Ивана Тургенева.
Михаил Пришвин
Моя родина (Из воспоминаний детства)
Мать моя вставала рано, до солнца. Я однажды встал тоже до солнца, чтобы на заре расставить силки на перепёлок. Мать угостила меня чаем с молоком. Молоко это кипятилось в глиняном горшочке и сверху всегда покрывалось румяной пенкой, а под этой пенкой оно было необыкновенно вкусное, и чай от него делался прекрасным.
Это угощение решило мою жизнь в хорошую сторону: я начал вставать до солнца, чтобы напиться с мамой вкусного чаю. Мало-помалу я к этому утреннему вставанию так привык, что уже не мог проспать восход солнца.
Потом и в городе я вставал рано, и теперь пишу всегда рано, когда весь животный и растительный мир пробуждается и тоже начинает по-своему работать.
И часто-часто я думаю: что, если бы мы так для работы своей поднимались с солнцем! Сколько бы тогда у людей прибыло здоровья, радости, жизни и счастья!
После чаю я уходил на охоту за перепёлками, скворцами, соловьями, кузнечиками, горлинками, бабочками. Ружья тогда у меня ещё не было, да и теперь ружьё в моей охоте необязательно.
Моя охота была и тогда и теперь — в находках. Нужно было найти в природе такое, чего я ещё не видел, и может быть, и никто ещё в своей жизни с этим не встречался...
Хозяйство моё было большое, тропы бесчисленные.
Мои молодые друзья! Мы хозяева нашей природы, и она для нас кладовая солнца с великими сокровищами жизни. Мало того, чтобы сокровища эти охранять — их надо открывать и показывать.
Для рыбы нужна чистая вода — будем охранять наши водоёмы.
В лесах, степях, горах разные ценные животные — будем охранять наши леса, степи, горы.
Рыбе — вода, птице — воздух, зверю — лес степь, горы.
А человеку нужна родина. И охранять природу — значит охранять родину.
Константин Ушинский
Наше отечество
Наше отечество, наша родина — матушка Россия. Отечеством мы зовём Россию потому, что в ней жили испокон веку отцы и деды наши.
"Моя любимая и не повторимая Родина" (cкачиваний: 2486)
"Моя любимая Родина" (cкачиваний: 2488)
"Моя Родина – Казахстан" (cкачиваний: 1109)
"Наша Родина" (cкачиваний: 937)
"Родина – это земля" (cкачиваний: 13649)
"Родина где мы живьом" (cкачиваний: 684)
"Родина где я родился" (cкачиваний: 1144)
"Родная страна" (cкачиваний: 439)
"Россия – моя Родина" (cкачиваний: 987)
"С чего начинается Родина сочинения" (cкачиваний: 747)
"Сочинения для 1-го класса на тему Родина" (cкачиваний: 727)
"Тема Родини в поэзии Есенина" (cкачиваний: 242)
"Узбекистан – моя Родина" (cкачиваний: 854)
Каждый человек рождается в определенной стране, где и проживает обычно целую свою жизнь. И та страна, где мы рождаемся, является для нас нашей семьей, за которую мы готовы положить свою жизнь и защищать ее до последней капли крови, пока в груди бьется наше сердце. Мы хотим, чтобы наша родина все время поднималась в глазах других, и достигала больших успехов и высот. Именно сейчас мы говорим о такой потенциальной стране как Россия. Эта страна большая и могучая, также территория страны занимает очень большую площадь во всем мире, и инфраструктура ее является очень большой и перспективной. Если посмотреть историю России, то мы увидим ее нелегкую судьбу, но благодаря упорству она добилась того чего хотела. Вот такой пролог мои пользователи я хотел вам донести, а теперь расскажу вам о той информации, которую вы найдете непосредственно у меня на сайте русских диктантов.
Дорогие мои пользователи вам нужно будет иногда написать текст сочинений на определенную тему, а именно как я с самого начала рассказывал вам, о родине, о народе. Здесь вы найдете огромное количество произведений на одну и ту же тематику. Тематик у нас очень много, и каждый пользователь сможет подобрать себе произведения на ту тему, которую ему нужно. Все сочинения написаны четко и красиво с соблюдением всех правил написания и расстановки знаков препинаний, что не будет влиять вам на оценку, когда вы будете писать его. У нас вы сможете без проблем как пересмотреть просто текст данного произведения, так и скачать его к себе на компьютер очень быстро и удобно. Меню у нас очень простое, что дорогой пользователь, не принесет никакой сложности никому, даже тем что за компьютером вовсе не умеет пользоваться.
Успех человека заключается в том, что если человек чего- то сильно хочет – то он обязательно этого добьется. Главное – упорство. Хочу вам сказать тот факт, что то, как вы учились из самого детства, будет очень сильно влиять на ваши дела в будущей жизни, а особенно – на вашу профессию. Если человек из самого детства что-то искал, старался, то он добьется своего места в жизни, а если ему было еще с раннего возраста все ровно, то такому человеку будет очень тяжело что-то начать. Так что учитесь, пишите диктанты и произведения.
Желаю успехов вам в написании ваших произведений, а также, чтобы за них вам ставили очень хорошие оценки.