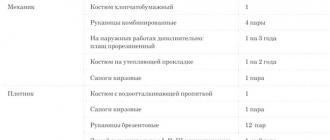Отношение автора к герою. Отношение А.С.Пушкина к главным героям романа "Евгений Онегин"
Онегин, добрый мой приятель...
А. С. Пушкин
Уже первые читатели романа «Евгений Онегин» обращали внимание на одну осо-бенность: активную роль автора, его непосредственное присутствие в произведении. Он выступает не просто очевидцем всего, что происходит в романе, личность автора несет на себе двойную нагрузку. Во-первых, он — творец произведения, ускоряющий или замедляющий развитие действия. При этом он — поэт Пушкин, во всем своеобра-зии своего творческого облика, со своими взглядами на жизнь и искусство, со своей биографией. Во-вторых, он — один из персонажей романа, вступающий в различные контакты с героями и оценивающий их поступки. Автор говорит здесь о себе часто и много, прямо обращаясь к читателю:
В те дни, когда в садах Лицея Я безмятежно расцветал, Читал охотно Апулея, А Цицерона не читал.
Природа пушкинской поэзии с особенной яркостью проявилась именно в «романе в стихах», где лирический поток, идущий от автора, образует как бы центр, вокруг которого располагаются люди и события. Эта лирика, проходящая через все произве-дение, придает происходящему определенное освещение, раскрывает точку зрения ав-тора. Если убрать из «Евгения Онегина» лирические отступления, он потеряет поло-вину своего обаяния. Авторский голос постоянно меняется, вибрирует. Между первой и последней главами — значительная разница в манере изложения. В первой главе преобладает шаловливо-иронический тон:
Высокой страсти не имея Для звуков жизни не щадить, Не мог он ямба от хорея, Как мы ни бились, отличить...
Блажен, кто праздник жизни рано Оставил, не допив до дна Бокала, полного вина, Кто не дочел ее романа И вдруг умел расстаться с ним, Как я с Онегиным моим.
Как и в пушкинских стихотворениях, в романе совершается определенный лири-ческий путь. Автор является одновременно и лирическим героем своего романа.
Повествование в романе течет, как непринужденная беседа рассказчика с читате-лем. Иногда автор приостанавливает повествование (например, заканчивает третью главу, не дав Татьяне и Евгению объясниться). Иногда он забегает вперед: сразу пос-ле описания дуэли рассказывает о памятнике на могиле Ленского. В повествовании о путешествии Онегина, начав описывать Одессу, Пушкин отвлекается, а потом возвра-щается к прерванной мысли: «А где, бишь, мой рассказ бессвязный?» Но кажущиеся отрывочность, бессвязность — это прием, свобода мастера, в совершенстве овладевше-го свободой изложения.
Автор с симпатией относится к своим героям: сочувствует влюбленной Татьяне, жалеет безвременно погибшего Ленского. Но в качестве персонажа романа он вступа-ет в общение только с Онегиным. Они встречаются в Одессе и Петербурге; это — не просто современники, а люди одного круга, близкого идеям декабристов. Эпическое и лирическое начало в романе связывает именно образ Онегина, чей мир наиболее бли-зок духовному миру автора. Пушкин говорит о своей дружбе с Онегиным:
Мне нравились его черты, Мечтам невольная преданность, Неподражательная странность И резкий, охлажденный ум. Я был озлоблен, он угрюм; Страстей игру мы знали оба...
Онегин часто бывает рупором авторских идей. Но он — не двойник Пушкина, ро-ман — не автобиография. И не только потому, что Онегин — не писатель, не творче-ский человек. Их мнения совпадают не по всем вопросам. Самое главное различие — отношение к русской природе, деревне, вообще ко всему русскому, народному. Вос-питанный гувернерами Онегин, в отличие от Пушкина, не мог чувствовать притяга-тельной силы национального характера. Пушкин иногда спорит с Онегиным, иногда соглашается с ним и далеко не всегда одобряет его поступки (например, осуждает за убийство Ленского). Но когда уставший и изменившийся Онегин вновь появляется перед глазами читателей, автор неожиданно пылко берет его под защиту: Материал с сайта
Зачем же так неблагосклонно Вы отзываетесь о нем? За то ль, что мы неугомонно Хлопочем, судим обо всем, Что пылких душ неосторожность Самолюбивую ничтожность Иль оскорбляет, иль смешит, Что ум, любя простор, теснит, Что слишком часто разговоры Принять мы рады за дела, Что глупость ветрена и зла, Что важным людям важны вздоры, И что посредственность одна Нам по плечу и не странна?Пушкин признает, что Онегин — человек незаурядный, думающий, страдающий от несовершенства окружающей действительности. Его «охлажденные чувства», из- за которых Онегин проглядел любовь Татьяны, вызывают сочувствие автора. Пуш-кин ввел в литературный обиход нового героя — не демоническую личность, а совре-менника, презирающего свет, но не могущего с ним порвать. Онегин — один из многих, недовольный жизнью, но не умеющий ее изменить. И его неудачная личная жизнь, и общественная неприкаянность показаны Пушкиным как типичные для первой по-ловины XIX века.
дая эпоха находит в нем новое
и свое. Это предназначение под
линных произведений искусства.
Они говорят новое новому, и они
всегда актуальны.
Д. С. Лихачев
«Слово о полку Игореве» - великий памятник культуры Древней Руси. Этой поэме, написанной неизвестным автором, уже более 800 лет, а она до сих пор читается, обсуждается, переводится вновь и вновь многими людьми. Секрет «Слова о полку Игореве» заключается в его актуальности во все времена. Основная идея «Слова о полку Игореве» - объединение всех русских князей в борьбе против общего врага. Но разрозненность князей не является признаком того времени, эпохи. И в Средние века, и в прошлом веке, и в наше время людям не хватало и не хватает сплоченности, они не могут достичь своей цели в одиночку. Ни один великий император, князь, ученый не стал бы великим, если бы он один отстаивал свои идеи, если бы не имел сторонников и друзей. Со смертью человека умерли бы и его идеалы. В «Слове о полку Игореве» автор, современник князя Игоря, от имени киевского князя Святослава обращается к русским князьям с призывом объединиться, «загородить острыми стрелами ворота на Русь с широкой степи», послать свои войска в поход за обиду своего времени, за Русь», за живые Игоревы раны».
К главному герою «Слова о полку Игореве», князю Игорю, автор относится двояко. Он восхищается отвагой и мужеством князя. Игорь хочет освободить Русь от кочевников-половцев, но он также преследует свои личные интересы - хочет прославиться. Поэтому князь Игорь, не принявший участия в общем походе князей против половцев, вместе с братом Всеволодом отправляется в поход. Игорь не обращает внимания даже на предупреждения природы: ни на затмение солнца, ни на кровавый зловещий рассвет перед второй битвой. Именно образы природы помогают автору выразить свою тревогу за Игорево войско. Князь Игорь ослеплен своим стремлением к победе: «Всю сорвем, что в будущем есть, славу, да и ту, что добыли уже деды», - говорит Святослав, отец Игоря и Всеволода. В «Слове о полку Игореве» «золотое слово Святослава» соседствует с плачем Ярославны. Автор хочет показать их сходства и различия. И Святослав, и Ярославна обращаются за помощью. Святослав - к князьям: «Встань за землю Русскую, за живые Игоревы раны», а Ярославна - к силам природы. Святослав корит князей за разрозненность, за междоусобицы, за неповиновение Киевскому князю, за то, что они не помогли Игорю, а Ярославна упрекает ветер, Днепр и солнце за поражение Игоря. Ее слова не просто мольба, но и заклинание, поскольку на Руси с приходом христианства все же остаются языческие обычаи, в частности олицетворение природы.
За слепоту князя Игоря, за его неразумный поступок, повлекший за собой смерть огромного числа русских воинов, автор осуждает его. Именно поход Игоря открыл ворота на Русь. Половцы, никогда до этого не бравшие в плен русского князя, воодушевились и решили, что Русь ослабла, что теперь они легко ее захватят. Спустя совсем немного времени после неудачного похода Игоря, его пленения, его побега монголо-татарские полчища вторглись на Русь, и 300 лет Русская земля томилась под властью монголо-татарского ига. Но автор все же прощает Игоря, как и весь русский народ прощает его. Великому русскому народу свойственно всепрощение, поэтому Игорь прощен и даже восхваляется народом в конце поэмы. «В селах радость, в городах веселье; все князей поют, встречают». Ведь князь Игорь сражался за Русь, за ее свободу, хотя и потерпел неудачу.
В «Слове о полку Игореве» автор высказывает свои собственные мысли. Боян, известный певец тех времен, воспевает прошлое. Он восхваляет князей. В отличие от Бояна автор говорит о настоящем, высказывает свое отношение к князьям. Автор не только восхваляет, но и осуждает всех князей. На примере князя Игоря автор показал, к чему может привести такой индивидуализм. Он укоряет их в том, что они, сильные и смелые, ведут меяедоусобные войны, которые обескровливают Русь, в то время как половцы совершают свои набеги. Некоторые князья даже прибегали к помощи «поганых» в своих междоусобных войнах. И во время того, как на какое-либо пограничное княжество нападали кочевники, другие князья не спешили на помощь, и лишь после того как вражеские полки подступали к их земле, они начинали обороняться. Именно из-за этого во время татаро-монгольского нашествия кочевники захватили всю Русь, ведь князья не смогли вовремя объединиться. Их ничему не научил пример Игоря, не помогло и обращение к ним автора «Слова о полку Игореве».
Возможно, что даже сейчас многие из тех, кто прочитает это великое произведение, не поймут его смысла, не поймут того, что единства не хватало не только князьям, но не хватает его и всем нам сейчас.
Ст. Рассадин, Б. Сарнов
А как же отрицательные герои?..
Неужели, описывая каждого своего героя, даже отрицательного, писатель обязательно хоть немножко описывает себя?
Однажды примерно такой же вопрос задали известному советскому писателю Юрию Олеше.
Олеша написал роман "Зависть", главным героем которого был Николай Кавалеров, довольно пошлый человек, одержимый злобной, исступленной завистью. Кавалеров был изображен с такой пронзительной силой реальности, с таким личным пониманием самых потаенных уголков его души, что многие спрашивали у Олеши:
– Неужели в Кавалерове вы хоть частично изобразили себя?
А иные просто решили, что Николай Кавалеров – это и есть писатель Юрий Олеша.
Отвечая на этот вопрос, Олеша говорил:
"В каждом человеке есть дурное и есть хорошее. Я не поверю, что возможен человек, который не мог бы понять, что такое быть тщеславным, или трусом, или эгоистом. Каждый человек может почувствовать в себе внезапное появление какого угодно двойника. В художнике это проявляется особенно ярко, и в этом – одно из удивительных свойств художника: испытать чужие страсти".
Это признание очень многое объясняет.
Самый храбрый человек хоть раз в жизни да испугался. Самый бескорыстный – хоть раз да позавидовал. Кто из нас в детстве не завидовал обладателю прекрасной авторучки, редкой марки, сверкающего гоночного велосипеда? Значит ли это, что все мы закоренелые завистники? Нет, конечно. Потому-то Олеша и говорит о свойстве художника "испытать чужие страсти". Чужие! Не свои! Но чтобы достоверно, правдиво, проникновенно, то есть ХУДОЖЕСТВЕННО изобразить "чужую страсть", писатель во что бы то ни стало должен найти в своей душе хоть крошечный, хоть самый ничтожный росток этой страсти.
Герой "Войны и мира" Андрей Болконский накануне Аустерлицкого сражения признается самому себе:
"Я никогда никому не скажу этого, но, боже мой! Что же мне делать, ежели я ничего не люблю, как только славу, любовь людскую. Смерть, раны, потеря семьи, ничто, мне не страшно. И как ни дороги, ни милы мне многие люди – отец, сестра, жена, – самые дорогие мне люди, – но, как ни страшно и неестественно это кажется, я всех их отдам сейчас за минуту славы, торжества над людьми, за любовь к себе людей, которых я не знаю и не буду знать".
Князь Андрей – один из самых обаятельных образов мировой литературы. Он умен, справедлив, благороден. Но чувство, завладевшее им в этот раз,– дурное, темное чувство. Жутко представить себе, что такой человек, как князь Андрей, мог испытывать нечто подобное. И уже вовсе невозможно вообразить, что это жестокое, холодное тщеславие, этот предельный эгоизм хоть в малой степени были свойственны самому Толстому, человеку, который не только всю жизнь проповедовал любовь к людям, но и сам в глазах всего человечества олицетворял собою совесть мира.
Но вот жена Толстого Софья Андреевна заполняет свои дневники бесконечными жалобами на тщеславие и эгоизм Льва Николаевича. Она прямо говорит, что ради славы он готов забыть родных и близких.
Может быть, Софье Андреевне не следует доверять? Может быть, она просто не понимала своего великого мужа? Тем более что Толстой и в самом деле жертвовал благополучием своей семьи, хотя и не ради тщеславия, а во имя своих идей.
Разумеется, и это играло немалую роль.
Но в том-то и дело, что так же безжалостно, даже гораздо безжалостнее говорит о тщеславии Л. Н. Толстого сам Л. Н. Толстой:
"Я много пострадал от этой страсти, – записывает он в дневнике, – она испортила мне лучшие годы моей жизни и навек унесла от меня всю свежесть, смелость, веселость и предприимчивость молодости".
Оказывается, Толстому были мучительно знакомы чувства, владевшие душой князя Андрея, – эта, как говорил сам писатель, "непонятная страсть". Она не давала ему покоя уже в ранней юности, преследовала его всю жизнь.
Что же, может быть, это дает нам основания разочароваться в Толстом? Заставляет нас меньше преклоняться перед его великой душой?
Совсем напротив!
Великий человек велик не тем, что душа его стерильно чиста, как дистиллированная водичка. Он велик тем, что даже мимолетное дурное чувство мучит его, причиняя нестерпимую боль. Недаром ведь Толстой говорит, что он "много пострадал" от своего тщеславия. Да и его герой князь Андрей стыдился своего недоброго чувства: "Я никогда никому не скажу этого..."
Возможно, создавая образ плохого человека, писатель оттого и способен так глубоко проникнуть в его темную душу, что ненавидит все плохое прежде всего в самом себе, стремится победить зло и в своей душе и вообще в жизни.
Неужели и Фонвизин мог бы сказать: "Митрофан – это я?"
Да, мог бы. Во-первых, лень, грубость Митрофанушки, да и другие его малопривлекательные качества в той или иной степени свойственны каждому из нас (хотя, скажем прямо, куда разумнее следовать не Митрофану, весьма довольному собственными скверными свойствами, а Толстому, непримиримо относившемуся к самым малым своим недостаткам).
А во-вторых, когда мы говорим, что каждый писатель даже об отрицательном своем герое может сказать: "Он – это я!", – мы имеем в виду еще и другое.
Митрофанушка и Петруша
Когда в суде допрашивают свидетелей, очевидцев преступления, почти всегда их показания существенно расходятся. Очень часто бывает так, что, скажем, из пяти свидетелей ни один не повторяет версию другого. У каждого – своя версия.
Естественно предположить, что в лучшем случае только один из них говорит правду, а остальные – лгут.
Оказывается, ничего подобного.
Все говорят правду. Но говорят так, как они ее себе представляют.
Нечто похожее происходит и в искусстве.
Если поставить рядом Швабрина из пушкинской "Капитанской дочки" и фонвизинского Митрофана, то, вероятно, это никого бы не удивило. Но интересно, что бы вы сказали, если бы мы поставили рядом с Митрофаном не отвратительного Швабрина, а симпатичнейшего Петрушу Гринева?
Наверное, вы бы оказали:
– Петруша и Митрофан? Что вы, смеетесь? Что между ними общего? Митрофан туп, хамоват, невежествен. А Петруша Гринев смел, благороден, честен. Над Митрофаном Фонвизин издевается, а Пушкин своего героя любит...
С этим трудно спорить. Пушкин действительно не только любит своего героя, но и отдает ему свои любимые мысли. А уж Митрофан... Даже если бы Фонвизин захотел подарить ему свои мысли, тот бы их просто не понял.
И тем не менее...
Крупнейший русский историк Василий Осипович Ключевский утверждал, что Митрофан и Петруша воплощают в себе одно и то же социальное и историческое явление: "Это самый обыкновенный, нормальный русский дворянин средней руки".
Поэтессе Марине Цветаевой тоже пришло в голову это сопоставление. В статье "Пушкин и Пугачев" она прямо называет юного Гринева Митрофаном. Хотя для Петруши это и звучит обидно, основания для такого сближения есть. И немалые.
Вспомните "Капитанскую дочку":
"...Доложили, что мусье давал мне свой урок. Батюшка пошел в мою комнату. В это время Бопре спал на кровати сном невинности. Я был занят делом. Надобно знать, что для меня выписана была из Москвы географическая карта. Она висела на стене безо всякого употребления и давно соблазняла меня добротою бумаги. Я решился сделать из нее змей и, пользуясь сном Бопре, принялся за работу. Батюшка вошел в то самое время, как я прилаживал мочальный хвост к Мысу Доброй Надежды. Увидя мои упражнения в географии, батюшка дернул меня за ухо, потом подбежал к Бопре, разбудил его очень неосторожно и стал осыпать укоризнами. Бопре в смятении хотел было привстать и не мог: несчастный француз был мертво пьян... Батюшка за ворот приподнял его с кровати, вытолкал из дверей и в тот же день прогнал со двора... Тем и кончилось мое воспитание.
Я жил недорослем, гоняя голубей и играя в чехарду с дворовыми мальчишками..."
Ну что? Разве не похожи, как две капли воды, Петрушино воспитание и учение Митрофана? Похожи, вплоть до мельчайших совпадений. "Упражнения в географии" Петруши и Митрофановы познания в "еоргафии". Бопре, который "в отечестве своем был парикмахером", и его двойник Вральман, прежде служивший кучером. Общее у Петруши и Митрофана и их пристрастие к голубятне...
И все-таки, что ни говори, Митрофан вызывает к себе одно отношение, а Петруша – совсем другое.
Так в чем же дело? Может быть, один писатель изобразил "нормального русского дворянина средней руки" верно, а другой был к нему несправедлив?
Между прочим, именно так и считал историк В. О. Ключевский. Он полагал, что Пушкин изобразил дворянского недоросля XVIII века "беспристрастнее и правдивее Фонвизина. У последнего Митрофан сбивается в карикатуру, в комический анекдот. В исторической действительности недоросль – не карикатура и не анекдот...".
Противопоставляя судьбу среднего русского дворянина шумной судьбе высшего дворянства, находившего приют в столичной гвардии, Ключевский писал:
"Скромнее была судьба наших Митрофанов. Они всегда учились понемногу, сквозь слезы при Петре I, со скукой при Екатерине II, не делали правительство, но решительно сделали нашу военную историю XVIII века. Это – пехотные армейские офицеры, и в этом чине они протоптали славный путь от Кунерсдорфа до Рымника и до Нови. Они с русскими солдатами вынесли на своих плечах дорогие лавры Минихов, Румянцевых и Суворовых".
И дальше он говорил: "Недаром и капитанская дочь М. И. Миронова предпочла добродушного армейца Гринева остроумному и знакомому с французской литературой гвардейцу Швабрину. Историку XVIII века остается одобрить и сочувствие Пушкина и вкус Марьи Ивановны" .
Историк Ключевский прав во многом, но только не в своем отношении к фонвизинскому "Недорослю". Митрофан вовсе не "сбивается в карикатуру", он и задуман как карикатура, как образ САТИРИЧЕСКИЙ. И Пушкин и Фонвизин – оба они сказали о дворянском недоросле правду. Просто Фонвизин сгустил отрицательные свойства недорослей (о которых упоминает и Ключевский: "учились понемногу... сквозь слезы... со скукой").
Для Пушкина время Митрофанов и Гриневых стало уже историей. А Фонвизин, современник Митрофана, заботился об исправлении существующих нравов. Ведь человеку, как и обществу, иногда бывает очень полезно увидеть свои пороки сквозь увеличительное стекло.
Кстати, говорят, что комедия Фонвизина имела и самое прямое действие. По мнению иных его современников, Митрофан был карикатурой на знакомого Фонвизину дворянского мальчика Сашу Оленина. И карикатура произвела на юного Оленина такое впечатление, что он набросился на учебу, учился в Страсбурге и Дрездене, стал одним из образованнейших людей России и даже президентом Академии художеств...
Сто пятьдесят Дон Жуанов
Вы скажете:
– Ну, хорошо, Фонвизин и Пушкин оба написали правду. Это понятно. Только, может, все объясняется гораздо проще? Ведь они писали об одном и том же явлении, а не об одном и том же человеке. Пушкин мог взять хорошего недоросля, Фонвизин – плохого. Только и всего!
Но в том-то и дело, что очень часто разные писатели изображали даже одного и того же РЕАЛЬНОГО, действительно существовавшего человека так, что эти образы были похожи друг на друга ничуть не больше, чем Петруша Гринев на Митрофанушку Простакова.
Припомним строки одного из лучших стихотворений русской поэзии:
Скрестивши могучие руки,
Главу опустивши на грудь,
Идет и к рулю он садится
И быстро пускается в путь.
Несется он к Франции милой,
Где славу оставил и трон,
Оставил наследника-сына
И старую гвардию он...
На берег большими шагами
Он смело и прямо идет,
Соратников громко он кличет
И маршалов грозно зовет.
Но спят усачи-гренадеры –
В равнине, где Эльба шумит,
Под снегом холодной России,
Под знойным песком пирамид.
 Это – "Воздушный корабль", стихи, воспевающие Наполеона. Да, именно воспевающие, потому что для автора их – Михаила Юрьевича Лермонтова Наполеон был романтическим героем, противостоящим низким и пошлым людям, окружающим поэта.
Это – "Воздушный корабль", стихи, воспевающие Наполеона. Да, именно воспевающие, потому что для автора их – Михаила Юрьевича Лермонтова Наполеон был романтическим героем, противостоящим низким и пошлым людям, окружающим поэта.
А вот другой писатель. И совсем другой Наполеон:
"...Император Наполеон еще не выходил из своей спальни и оканчивал свой туалет. Он, пофыркивая и покряхтывая, поворачивался то толстой спиной, то обросшей жирной грудью под щетку, которой камердинер растирал его тело. Другой камердинер, придерживая пальцем склянку, брызгал одеколоном на выхоленное тело императора с таким выражением, которое говорило, что он один мог знать, сколько и куда надо брызнуть одеколону. Короткие волосы Наполеона были мокры и спутаны на лоб. Но лицо его, хоть опухшее и желтое, выражало физическое удовольствие... "
А вот этот другой Наполеон смотрит на портрет сына, того самого, о котором так трогательно говорит Лермонтов:
"...С свойственной итальянцам способностью изменять произвольно выражение лица, он подошел к портрету и сделал вид задумчивой нежности. Он чувствовал, что то, что он скажет и сделает теперь, есть история. И ему казалось, что лучшее, что он может сделать теперь, – это то, чтобы он с своим величием... выказал в противоположность этого величия самую простую человеческую нежность. Глаза его отуманились, он подвинулся, оглянулся на стул (стул подскочил под него) и сел на него против портрета. Один жест его – и все на цыпочках вышли, предоставляя самому себе и его чувству великого человека... "
Это – Толстой. "Война и мир".
Подумать только – какая разница! У Лермонтова – гордый изгнанник, идущий, несмотря на свое униженное положение, "смело и прямо"; у Толстого – самодовольный пошляк, жеманничающий перед самим собою, даже свои отцовские чувства превращающий в фальшивую и актерскую позу. Там – "могучие руки". Здесь – выхоленное, жирное тело. В стихах – одинокий человек, преданный живыми и покинутый мертвыми. В прозе – барин, окруженный лакеями, кто бы они ни были, камердинеры или маршалы.
 Два Наполеона... И таких примеров можно привести множество. Не десятки, а сотни, даже тысячи случаев.
Два Наполеона... И таких примеров можно привести множество. Не десятки, а сотни, даже тысячи случаев.
Невозможно представить себе читателя, которому было бы неизвестно имя Дон Жуана. Кто встречал его в комедии Мольера, кто – в стихотворном романе Байрона, кто – в повести Мериме, кто – в маленькой трагедии Пушкина "Каменный гость" (где он, правда, называется Дон Гуаном), кто – в драматической поэме А. К. Толстого... Да разве всех перечислишь! Мировая литература насчитывает около СТА ПЯТИДЕСЯТИ Дон Жуанов. И у каждого писателя – свой Дон Жуан, непохожий на своих собратьев.
Тут может возникнуть сомнение. Хотя, по слухам, Дон Жуан и существовал на самом деле, все-таки жил он давным-давно, в XIV веке. А Наполеон ведь жил сравнительно недавно. Сохранились его портреты, жизнеописания, составленные современниками, исторические документы. Словом, достаточно точно известно, каким именно был Наполеон – вплоть до его манер и привычек.
Так кто же изобразил Наполеона правильно, в соответствии с исторической правдой – Лермонтов или Толстой? Может ли быть, чтобы и на этот раз были правы оба писателя?
Может. И на этот раз правы оба.
Не только Лермонтов, который восхищался императором Франции, но и Толстой, ненавидевший и презиравший Наполеона, сделавший его воплощением лицемерной пошлости, мог бы сказать: "Наполеон – это я!.. " Это значило бы: "Я писал не Наполеона вообще, но СВОЕГО Наполеона!"
Реальный, исторический Наполеон Бонапарт был одинаково мало похож и на могучего героя лермонтовского стихотворения и на жирного пошляка, изображенного в "Войне и мире". И Толстой и Лермонтов не особенно стремились к сходству портрета с оригиналом, потому что оба они живописали не Наполеона, а СВОЕ ОТНОШЕНИЕ к нему.
Так всегда поступает художник. В красках, в звуках, в словах он воплощает свое отношение к миру.
Рисунки Н. Доброхотовой.
Московский Государственный Университет
им. М.В. Ломоносова
факультет иностранных языков
кафедра истории России
«Сказание о мутьянском воеводе Дракуле. Отношение автора к герою»
студента 1 курса д/о
группы А-101
Цагова Амира
научный руководитель
к.и.н., доц. Павловский О.В.
Москва
План
I). Введение.
Характеристика работы. Составные части работы. Постановка цели и определение средств и методов её достижения.
2). Ассоциация образа Дракулы с личностью Ивана Грозного
II). Глава I.Граф Дракула. Реальный и литературный образы
1). Биография.
2). Происхождение прозвища. Аналогия с Дьяволом.
3). Дракула-вероотступник
III). Глава II. Сказание о Дракуле; Анализ текста.
1). Композиция Сказания
2). Анализ текста
IV). Заключение
V). Список использованной литературы
Введение.
Сказание о Дракуле воеводе появилась в русской письменности в последней четверти ХV века. Старейший список древнейшей редакции, переписан в 1490 г. иеромонахом Кирилло-Белозерского монастыря Ефросином.
Сказание о Дракуле» состоит из ряда эпизодов-анекдотов о «мунтьянском» (румынском) князе Владе, известном под прозвищами Цепеша (то есть «Сажателя на кол», «Прокалывателя») и Дракулы («Дракона»). Анекдоты стали известны русскому автору во время его пребывания в соседних с Румынией землях. О своем пребывании в Венгрии с какими-то спутниками автор сам упоминает в повести (мы «видели», «при нас умер»), судя по сообщенным им сведениям, он был там в 80-х гг. XV в. (после смерти Дракулы). Эти указания позволяют прийти к выводу, что автором повести был русский посол в Венгрии и Молдавии - скорее всего дьяк Ивана III Федор Курицын, возглавлявший в 1482-1484 гг. русское посольство к венгерскому королю Матвею Корвину и молдавскому господарю Стефану Великому.
Что касается иностранных источников, то здесь наиболее значительны немецкие, венгерские, поздневизантийские и русские.
Среди немецких следует выделить десятки печатных памфлетов XV века, повествующих о «садистических» деяниях господаря-изверга, а также аналогичной тематики стихи венского миннезингера М.Бехайма. Точка зрения венгров представлена итальянским гуманистом А.Бонфинио, автором латинской хроники, подвизавшимся при дворе Матьяша Хуньяди. Она мало чем отличалась от немецких текстов - о православном государе, сжигавшем католические монастыри, писали католики. С большей симпатией относятся к Дракуле византийские историки XV века Дука, Критовул, Халкондил, но и они, главным образом, пересказывают истории о свирепых шутках Цепеша. На Руси же было популярно «Сказание о Дракуле воеводе», где основным преступлением Влада III объявлялась измена православию.
Цель данной работы состоит в том, чтобы попытаться, на сколько это окажется возможным, определить отношение автора сказания к герою. Для этого необходимо учесть ряд факторов: саму личность автора, его политические и религиозные симпатии и антипатии, историческую эпоху, в период которой создавался этот литературный памятник.
Данная работа состоит из двух глав, введения и заключения. Во введение поставлена задача работы и методы её решения, дана характеристика работы, также во введении обсуждается вопрос об авторстве.
Что касается первой главы, то в ней дана биография Дракулы, обсуждается вопрос о происхождении его прозвища, и вопрос о вероотступничестве.
Вторая глава посвящена анализу текста и подведению итогов работы.
Историческим прототипом Дракулы был Влад Цепеш, валашский воевода в годы 1456-1462 и 1476. Вопрос о том, является сказание о Дракуле произведением оригинальным или оно заимствовано, спорен. Ещё в начале 40-х годов Востоков, основываясь на заключительной части повести, где сказано о сыновьях Дракулы: «Один сын при короле живет, а другой был у Варданского епископа и при нас умер, а третьего сына, старшего, видели тут же в Буде», заключает, что автор был в Венгрии при короле Матвее. А так как в 1482г. Иван III посылал к этому королю дьяка Фёдора Курицына для утверждения мирного договора, то Востоков считал вероятным написание повести или самим Курицыным, или кем-либо из его свиты – на основании рассказов очевидцев или людей, в памяти которых ещё свежо было воспоминание о Цепеше-Дракуле . Но очевидно, что сыновей Дракулы в Будине мог видеть кто угодно и не непременно русский автор, и то, что поездка Фёдора Курицына в Венгрию совпала со временем пребывания этих сыновей в Будине, слишком мало ещё говорит в пользу авторства Курицына или члена его посольства. В дальнейшем ряд исследователей приписывали повести то русское, то иностранное происхождение (сохранились позднейшие старонемецкие тексты, в которых фигурирует Дракула). В частности, А.И. Соболевский полагал, что эта повесть восходит к одному из летучих листков XVв., но что редактором или переводчиком её мог быть Фёдор Курицын . А.Д. Седельников отвергает авторство Фёдора Курицына, вернувшегося в Москву лишь в 1486г., на том основании, что старейший список повести, датированный 1490 г., как указано в тексте, восходит к списку, датируемому 13 февраля 1486г. Хронологическое затруднение здесь оказывается тем более очевидным, что самый оригинал списка 1486г., естественно, должен иметь ещё более раннюю датировку. Не исключено, однако, по мнению А.Д. Седельникова, возможность других, неофициальных сношений Москвы с Венгрией и посольств в Венгрию. Быть может, автор повести и был в Венгрии одновременно с посольством Курицына, но вернулся в Москву раньше и другим путём. В самой форме повести исследователь видит один из старейших образцов «сказок-отписок», исходивших из посольской среды и позже.
2). Ассоциация образа Дракулы с личностью Ивана Грозного.
Сказание о Дракуле, начиная с конца XVв. Вплоть до XVIIIв., распространилась в значительном количестве списков, что свидетельствует о немалой её популярности. Враждебно настроенные к Ивану Грозному слои русского общества, главным образом, вероятно, бояре ассоциировали образ Дракулы с личностью Грозного, круто расправлявшегося со своими политическими противниками, которых поддерживали и иностранцы. Показательно с этой стороны то, что к Грозному они позже приурочили первый эпизод, рассказанный в повести о Дракуле. Так, англичанин Коллинз, врач царя Алексея Михайловича, в своей книге о России сообщает, что Иван Грозный, принимая французского посла, велел пригвоздить к его голове шляпу за то, что он не снял её перед царём.
Перед тем как перейти к первой главе, следует сказать, что для достижения цели, поставленной в данной работе, необходимо установить личность самого Дракулы, опредилить определяющие моменты той исторической эпохи, отделить реальный образ Дракулы от модифицированного литературного. Этому и будет посвящена первая глава данной работы.
Глава I
Граф Дракула. Реальный и литературный образы.
1) Биография.
Румынский господарь Влад III, более известный как Дракула (1431-1476), происходил из рода Басараба Великого, правителя Валахии (1310-1352), в тяжелой борьбе отстоявшего независимость своего государства от Венгрии.
Дед Дракулы - воевода Мирча Старый (1386-1418) - благодаря своей государственной мудрости и военным удачам заслужил славу румынского Шарлеманя, хотя в итоге признал себя вассалом Османской Турции. Но тут уж у него просто не было выхода. В XV веке православная Валахия оказалась яблоком раздора для двух супердержав - Венгрии и Оттоманской Порты. За Венгрией стояло тогда все католичество, предпринявшее очередное наступление на православие, Порта же, борясь за лидерство в исламском мире, претендовала и на лидерство глобальное. Сохранить независимость, воюя на два фронта, не представлялось возможным, однако уступка Венгрии повлекла бы католизацию страны, а Порта в религиозной политике отличалась большей терпимостью. Мирча Старый выбрал меньшее зло, на его, конечно, взгляд. Борьба двух супердержав реализовывалась в смене хозяев валашского трона. Как правило, принц из династии Басараба, претендовавший на трон, уже занятый ставленником одной из держав, получал поддержку (финансовую, военную и т.п.) от ее соперницы. После чего претендент, опираясь на группу недовольных бояр, затевал смуту и, если удача ему сопутствовала, становился господарем.
2) Происхождение прозвища. Аналогия с Дьяволом.
Отец Дракулы, еще не заняв престол, вступил при дворе Сигизмунда Люксембурга в элитарный Орден Дракона, основанный в 1387 году венгерским королем («по совместительству» - главой Священной Римской империи) для борьбы с неверными, главным образом - турками. Орден этот, его элитарный характер и герб описаны Э.Виндеке, современником и биографом Сигизмунда Люксембурга. Став господарем, Влад II по относился к рыцарским обязанностям настолько серьезно, что повелел изобразить дракона - элемент орденской символики - даже на монетах, изображение на которых считалось сакральным. Соответственно, неуемный рыцарь и заработал мрачноватое прозвище. И все-таки, излагая «эмблематическую» версию, даже её сторонники Р.Флореску и Р.Макнелли оговариваются: возможно, современники понимали прозвище господарей буквально. Смысл орденской символики государь не разъяснял всем и каждому, зато изображение дракона вызывало у многих вполне определенные ассоциации. Опять же, Орден Дракона в качестве орудия борьбы с неверными выглядит довольно странно, а если учесть, что создавался он в эпоху небывалого распространения всякого рода ересей и чернокнижничества, то возникает закономерный вопрос: не поклонялись ли рыцари дракону-дьяволу?
Прямых свидетельств того, что Влад II считался колдуном, нет, однако, если немыслимое для христианского государя прозвище все же закрепилось (вне зависимости от причин его появления), значит, в народном сознании сложилось соответствующее представление. То же самое можно сказать и о Владе III. Чем бы ни было обусловлено прозвище господаря, оно сохранилось в фольклоре, т.е. информация, в нем заложенная, оставалась актуальной. Имя «Дракула» можно понимать и как «сын человека по прозвищу Дракул» (Халкокондил именует «Дракулой» и Цепеша, и Раду Красивого - другого сына Влада II), и как «приверженец Дьявола, следующий путями тьмы». Такого рода указания вовсе не обязательно относятся к области морали, чаще всего имеется в виду связь с не чистой силой.
3). Дракула-вероотступник.
Впрочем, если бы не было мифологически-фольклорных указаний на вампиризм Цепеша, все равно было бы правомерно соотнести имя Дракулы с легендами об упырях. У румын существует поверье: православный, отрекшийся от своей веры (чаще всего принявший католичество), непременно становится вампиром, переход же в католичество Влада III, некогда грабившего католические монастыри, безусловно, стал весьма впечатляющим событием для его подданных-единоверцев. Вполне вероятно, возникновение этого верования обусловлено механизмом своеобразной «компенсации»: переходя в католичество, православный, хотя и сохранял право на причащение Телом Христовым, отказывался от причастия Кровью, поскольку у католиков двойное причастие - привилегия клира. Соответственно, вероотступник должен был стремиться компенсировать «ущерб», а коль скоро измена вере не обходится без дьявольского вмешательства, то и способ «компенсации» выбирается по дьявольской подсказке.
В XV веке тема вероотступничества особенно актуальна: это эпоха наиболее интенсивной католической экспансии, что уже отмечалось выше. Именно тогда гуситы воевали со всем католическим рыцарством, отстаивая «право Чаши» (т.е. право причащаться Кровью Христовой, будучи католиками-мирянами), за что их и прозвали «чашниками». Борьбу с «чашниками» возглавил император Сигизмунд Люксембург, и как раз тогда, когда отец Дракулы стал «рыцарем Дракона», главным противником Ордена были не турки, а мятежники-гуситы. Современники вполне могли видеть в Дракуле упыря, однако следует учитывать, что их представление о вампирах существенно отличалось от нынешнего, сложившегося благодаря литературе «ужасов» и кинематографу и восходящего к романтичской и неоромантической литературе, а также к преданиям XVII-XVIII веков.
Перед тем как перейти ко второй главе, следует подчеркнуть необходимость анализа самого текста сказания, т.к. это один из важнейших моментов в достижении цели, поставленной в данной работе. Помимо этого необходимо попытаться определить авторство данного литературного памятника, для чего следует принять во внимание мнение историков по этому вопросу.
Глава II
Композиция сказания; Анализ текста.
Текст сказания был мною взят из Хрестоматии по древней русской литературе под редакцией Н.К. Гудзия.
1). Композиция сказания.
Повесть по своей композиции очень несложна: она представляет собой соединение нанизанных один на другой анекдотичных случаев из жизни Дракулы. В его лице соединяются различные, порой противоречивые качества: он прежде всего непомерно жесток и коварен и притом безгранично своеволен, до самодурства. Но вместе с тем Дракула - страстный, хотя и очень суровый и прямолинейный оберегатель правды и ненавистник зла. Он очень находчив и умеет ценить находчивость и ум и у других, щедро одаряя их, вместо того, чтобы казнить.
2). Анализ текста.
Учитывая то, что текст состоит из ряда эпизодов, описывающих деяния Влада Цепеша, то и анализировать их нужно соответственно каждый в отдельности, а затем подвести итог и выделить главные и наиболее важные моменты. С самых первых строк ясно виден настрой автора по отношению к Дракуле.
«Был в Мунтьянской земле воевода, христианин греческой веры, имя его по-валашски Дракула, а по-нашему -Дьявол. Так жесток и мудр был, что, каково имя, такова была и жизнь его». (История древней русской литературы. – М.: Просвещение., 1966. – С.269)
С самого начала автор акцентирует внимание на жестокости Дракулы, заранее настраевая читателя на негативное отношение к герою, т.к. жестокость никогда не считалась достоинством. Помимо этого автор проводит аналогию между Дракулой и Дьяволом. Тут русский книжник XV века допускает ошибку, хотя и не принципиальную. По-румынски «дьявол» - это «дракул», а «Дракула» - «сын дьявола». Прозвище «Дракул» получил отец Влада III, однако историки традиционно объясняют, что связь с нечистой силой тут ни при чем. «Дракул» означает по-румынски не только «дьявол», но и «дракон».
Привидем ещё одну выдержку из текста сказания
«Однажды пришли к нему послы от турецкого царя и, войдя, поклонились по своему обычаю, а колпаков, своих с голов не сняли. Он же спросил их: «Почему так поступили: пришли к великому государю и такое бесчестие мне нанесли?» Они же отвечали: «Таков обычай, государь, в земле нашей». А он сказал им: «И я хочу закон ваш подтвердить, чтобы следовали ему неуклонно». И приказал прибить колпаки к их головам железными гвоздиками, и отпустил их со словами: «Идите и скажите государю вашему: он привык терпеть от вас такое бесчестие, а мы не привыкли, и пусть не посылает свой обычай блюсти у других государей, которым обычай такой чужд, а в своей стране его соблюдает». (История древней русской литературы. – М.: Просвещение., 1966. – С.270)
Анализируя данный отрывок становится ясно, что автор не изменяет своему стилю, в очередной раз подчеркивая жестокость Дракулы. Но в то же время здесь прослеживается ирония, которая может остаться поначалу незамеченной. По моему мнению, автор сказания справился со своей задачей, показав Дракулу как гордого, безкомпромисного и безжалостного правителя(по крайней мере, по средневековым меркам) т.к. в данном случае послы проявили явное неуважения к нему, не сняв свои головные уборы, тем самым пренебрегая традициями страны, на территории которой они находились на правах гостей. Нельзя забывать так же и о религиозной принадлежности автора (он вряд ли симпатизировал турецким послам, исповедующим ислам). А в отношении Дракулы автор, как мне кажется, следует, поставленной перед ним задачи, состоящей в представлении Дракулы как самодурного и жестокого человека. Следует отметить и то, что этот поступок Дракулы был, несомненно, вызывающе смелой демонстрацией независимости.
Перейдем к анализу следующего эпизода.
«Царь был очень разгневан этим, и пошел на Дракулу войной, и напал на него с великими силами. Дракула же, собрав все войско свое, ударил на турок ночью и перебил множество врагов. Но не смог со своей небольшой ратью одолеть огромного войска и отступил. И стал сам осматривать всех, кто вернулся с ним с поля битвы: кто был ранен в грудь, тому воздавал почести и в витязи того производил, а кто в спину, - того велел сажать на кол, говоря: «Не мужчина ты, а баба!» А когда снова двинулся против турок, то так сказал своим воинам: «Кто о смерти думает, пусть не идет со мной, а здесь остается». Царь же, услышав об этом, повернул назад с великим позором, потеряв без числа воинов, и не посмел выступить против Дракулы». (История древней русской литературы. – М.: Просвещение., 1966. – С.270).
Здесь акцент опять-таки падает на жестокость Дракулы. Если в предыдущем эпизоде его жестокость была направлена против иностранных послов, то в данном случае абсолютно равносильную ей жестокость испытали на себе его же собственные товарищи по оружию. Тем самым автор показывает, что Дракула одинаково жесток как по отношению к чужим так и к своим.
«Был в земле его источник и колодец, и сходились к тому колодцу и источнику со всех сторон дороги, и множество людей приходило пить из того колодца родниковую воду, ибо была она холодна и приятна на вкус. Дракула же возле того колодца, хотя был он в безлюдном месте, поставил большую золотую чару дивной красоты, чтобы всякий, кто захочет пить, пил из той чары и ставил ее на место. И сколько времени прошло - никто не посмел украсть ту чару.» (История древней русской литературы. – М.: Просвещение., 1966. – С.269)
Данный эпизод красноречиво говорит о том, что Дракула внушал огромный страх своим подданным, что у них даже не возникало мысли украсть чашу. Причиной чему было, то что они знали жестокий нрав своего правителя, и особо на его милосердие не расчитывали.
«Однажды ехал Дракула по дороге и увидел на некоем бедняке ветхую и разодранную рубашку и спросил его: «Есть ли у тебя жена?» - «Да, государь», - отвечал тот. Дракула повелел: «Веди меня в дом свой, хочу на нее посмотреть». И увидел, что жена бедняка молодая и здоровая, и спросил ее мужа: «Разве ты не сеял льна?» Он же отвечал: «Много льна у меня, господин». И показал ему множество льна. И сказал Дракула женщине: «Почему же ленишься ты для мужа своего? Он должен сеять, и пахать, и тебя беречь, а ты должна шить ему нарядные праздничные одежды. А ты и рубашки ему не хочешь сшить, хотя сильна и здорова. Ты виновна, а не муж твой: если бы он не сеял льна, то был бы он виноват». И приказал ей отрубить руки, и труп ее воздеть на кол.» (История древней русской литературы. – М.: Просвещение., 1966. – С.270)
Эта история напоминает своего рода анекдот, основной мыслью которого является жестокость Дракулы. Своеобразный черный юмор. Оригинальная и в какой-то степени примитивная логика присуждаемая Дракуле снова акцентирует внимания читателя на его кровожадности и безжалостности, даже по отношению к женщине. Необыкновенную жестокость проявлял Дракула также и по отношению к женщинам, нарушавшим целомудрие.
«Изготовили мастера для Дракулы железные бочки, а он наполнил их золотом и погрузил в реку. А мастеров тех велел казнить, чтобы никто не узнал о его коварстве, кроме тезки его - дьявола.» (История древней русской литературы. – М.: Просвещение., 1966. – С.271)
Здесь автор чуть ли не прямо называет Дракулу дьяволом, приводя в пример жестокий поступок, на который, по мнению автора, кроме него способен лишь сатана.Автор как бы расшифровывает миф, подчеркивая, что валашский господарь не просто тезка дьявола, но и действует словно колдун, по определению с дьяволом связанный.
Далее в сказании рассказывается о том как Дракула терпит поражение в битве с угорским королём Матвеем, попадает в плен и выдворяется в темницу в Вышеграде на Дунае, а в Мутьянскую землю королём был назначен был другой воевода. В темнице Дракула просидел двенадцать лет, причём и там проявлял обычную свою жестокость: ловя мышей и покупая птиц, он казнил их: иных сажал на кол, иным отрезал голову, у птиц же ощипывал перья и так отпускал их. Он научился шить и этим в темнице кормился.
Когда новый мутьянский воевода умер, король предложил Дракуле вернуться на воеводство в Мутьянскую землю, но с условием, чтобы он принял католическую веру. С явным огорчением автор сообщает, что Дракула согласился на предложение короля и ценой измены православию получил не только воеводство, но и в жёны себе сестру короля, от которой у него родилось двое сыновей.
В повести вслед за тем передаётся эпизод, характеризующий гордость, крайнее самолюбие и сознание своей власти и своего достоинства, не покидающие Дракулу и после длительного темничного заключения. Когда он временно, до отъезда в Мутьянскую землю, поселился после выхода из темницы в Будине, в его двор вбежал некий злодей и спрятался там. Преследовавшие преступника, найдя его, поймали; Дракула же выскочил в это время с мечом и отсёк голову приставу, державшему пойманного, а самого преступника отпустил. Королю, потребовавшему у него объяснения его поступка, он велел передать: «Всякий, кто разбойнически вторгается в дом великого государя (т.е. в данном случае Дракулы), так погибнет. Если бы ты ко мне сам явился и я нашёл бы с своём доме этого злодея, я выдал бы его или простил». Король, услышав это, рассмеялся, дивясь горячности Дракулы.
Прожил после этого Дракула десять лет, скончавшись в «латинской прелести». Конец же его был таков. Напали на Мутьянскую земли турки; Дракула одолел их, и войско его без милости гнало и секло их. Обрадованный, он взошёл на гору, чтобы лучше видеть, как секут врагов. Но в это время отделившийся от войска его приближенный, думая, что на горе стоит турок, убил его копьём. Заканчивается сказание сообщением о судьбе семьи Дракулы и о назначении нового воеводы в Мутьянскую землю.
Заключение
Исследовав, насколько это представилось возможным, поставленный в этой работе вопрос, и пронализировав текст повести, я пришёл к выводу, что при всём стремлении автора объективно рассказывать о поступках Дракулы, прорывается осудительная его оценка, когда он поясняет, что русское значение его имени – «дьявол», или когда говорит о «тезоименитом ему дьяволе», который только и мог знать о его «коварстве» по отношению к убитым им мастерам.
Однако строгий суд над Дракулой автор произносит не столько в связи с его жестокостью, сколько в связи с отступлением от православия в католическую веру: «Дракула же, - сетует он, - предпочёл радости суетного мира вечному и бесконечному, и изменил православию, и отступил от истины, и оставил свет, и вверг себя во тьму. Увы, не смог перенести временных тягот заключения, и отдал себя на вечные муки, и оставил нашу православную веру, и принял ложное учение католическое». И случайную смерть Дракулы от руки своего же воина приходится, по смыслу повести, толковать как наказание за измену православной вере.
Цель данной работы заключалась в том чтобы попытаться определить отношения автора сказания к героя. Проанализировав текст сказания и материалы относящиеся к этому вопросу, я пришёл к выводу, что отношение автора к герою носит более негативный чем позитивный характер, что можно объяснить фактом вероотступничества Дракулы (его переходом из православия в католицизм).
Список использованной литературы:
Н.К. Гудзий. История древней русской литературы. – М.: Просвещение, 1966.
Н.К. Гудзий. Хрестоматия по древней русской литературе.- М.: Министерство Просвещения РСФСР, 1962.
Переводная литература Московской Руси XIV-XVII вв., СПБ, 1903
Я.С. Лурье. Повесть о Дракуле. Исследование и подготовка текстов.- М. – Л., 1964
Литературная история повести о Дракуле. Известия по русскому языку и словесности Академии наук СССР, т. II, 1929.
Энциклопедический словарь по истории.- М.: Просвещение, 1989
Описание русских и словенских рукописей Румянцовского музеума, СПБ, 1842, стр. 512
Переводная литература Московской Руси XIV-XVII вв., СПБ, 1903, стр. 233
Литературная история повести о Дракуле, Известия по русскому языку и словесности Академии Наук СССР, т. II, стр. 621-659
Персонаж (фр. personnage, от лат. persona - особа, лицо, маска) - вид художественного образа, субъект действия, переживания, высказывания в произведении. В том же значении в современном литературоведении используются словосочетания литературный герой, действующее лицо . В данном синонимическом ряду слово персонаж - наиболее нейтральное, его этимология (persona - маска, которую надевал актер в античном театре) мало ощутима. Понятие персонажа (героя, действующего лица) - важнейшее при анализе эпических и драматических произведений, где именно персонажи, образующие определенную систему, и сюжет (т.е. система, ход событий) составляют основу предметного мира. В эпосе героем может быть и повествователь (рассказчик ), если он участвует в сюжете. В лирике же, воссоздающей прежде всего внутренний мир человека, персонажи (если они есть) изображаются пунктирно, фрагментарно, а главное - в неразрывной связи с переживаниями лирического субъекта.
Чаще всего литературный персонаж - это человек. Степень конкретности его изображения может быть очень разной и зависит от многих причин. Он может занимать в системе персонажей разное место и, соответственно, быть нарисован в полный рост или представлен через немногие детали. Но в рамках эпизода в центре внимания часто оказывается именно эпизодическое лицо.
Сам выбор героя в сильной степени зависит от жанра ; можно говорить о «жанровых героях» в традиционалистской литературе. Так, в эпопее герой, по Н. Буало, должен быть благородным и по происхождению, и по характеру, но при этом быть правдоподобным:
Структура образа в эпических произведениях иная, чем в драме . Т. Манн отмечал преимущества повествователя, романиста, перед драматургом. Но более всего принципы и приемы изображения определяются замыслом произведения, творческим методом писателя: о второстепенном персонаже реалистической повести в биографическом, социальном плане сообщено больше, чем о главном герое модернистского романа.
Наряду с людьми в произведении могут действовать и разговаривать животные, растения, вещи, природные стихии, фантастические существа, роботы («Лягушка-путешественница» В.М.Гаршина, "Синяя птица" М. Метерлинка, "Маугли" Р. Киплинга, "Человек-амфибия" А. Беляева, "Война с саламандрами" К. Чапека, "Солярис" Ст. Лема).
Есть жанры, виды литературы, в которых такие антропоморфные персонажи обязательны или очень вероятны: сказка, басня, баллада, анималистская литература, научная фантастика и др.
Персонажную сферу литературы составляют не только отдельные субъекты, но и собирательные герои (их прообраз - хор в античной драме). Интерес к проблемам народности, социальной психологии, в частности к психологии толпы, стимулировал в XIX- XX вв. развитие данного ракурса изображения, введение в сюжет массовых сцен (толпа в "Соборе Парижской богоматери" В. Гюго) Близки к собирательным групповые персонажи, где число лиц ограничено и обычно они названы по имени.
В большинстве произведений есть внесценические персонажи, расширяющие его пространственно-временные рамки и укрупняющие ситуацию («Мизантроп» Мольера, «Горе от ума» Грибоедова). Это понятие применяется не только к драме но и к эпосу, где аналогом сцены можно считать прямое (т.е. данное не в пересказе какого-то героя) изображение лиц. Так, в рассказе Чехова «Хамелеон» к внесценическим лицам относятся генерал и его брат - любители собак разных пород. Еще один вид персонажа - заимствованный , т.е. взятый из произведений других писателей и обычно носящий то же имя. Такие герои естественны, если заимствовался сюжет (Федра и Ипполит в трагедиях «Ипполит» Еврипида, «Федра» Сенеки, «Федра» Расина). Но известный читателю герой может вводиться в новый ансамбль персонажей, в новый сюжет (пьеса «Дон Кихот» в Англии» Г.Филдинга, Молчалин в цикле Салтыкова-Щедрина «В среде умеренности и аккуратности», Чичиков, Ноздрев и другие герои «Мертвых душ» в «Похождениях Чичикова» Булгакова).
Можно выделить и другие виды персонажей. Напр., вводится двойник , чье фантомное существование порождено раздвоенностью сознания героя (традиция, имеющая глубокие корни в мифологии, религии).. Не менее условен древний мотив превращения , метаморфозы героя («Человек-невидимка» Г.Уэллса, «Клоп» Маяковского, «Собачье сердце» Булгакова, «Заводной апельсин» Э.Берджеса).
Разнообразие видов персонажа вплотную подводит к вопросу о предмете художественного познания: нечеловеческие персонажи выступают носителями нравственных, т. е. человеческих, качеств; существование собирательных героев выявляет интерес писателей к общему в разных лицах, к социальной психологии.
Автор - это 1) создатель (творец) произведения литературы; субъект художественно-литературной деятельности, чьи представления о мире и человеке отражаются во всей структуре создаваемого им произведения.
2) образ А. - персонаж, действующее лицо художественного произведения, рассматриваемое в ряду других персонажей (обладает чертами лирического героя или героя-рассказчика; может быть предельно сближен с биографическим А. или намеренно отдален от него).
Автор неизменно выражает (конечно же, языком художественных образов, а не прямыми умозаключениями) свое отношение к позиции, установкам, ценностной ориентации своего персонажа (героя -- в терминологии М.М. Бахтина). При этом образ персонажа (подобно всем иным звеньям словесно-художественной формы) предстает как воплощение писательской концепции, идеи, т.е. как нечто целое в рамках иной, более широкой, собственно художественной целостности (произведения как такового). Он зависит от этой целостности, можно сказать, по воле автора ей служит. При сколько-нибудь серьезном освоении персонажной сферы произведения читатель неотвратимо проникает и в духовный мир автора: в образах героев усматривает (прежде всего непосредственным чувством) творческую волю писателя. Соотнесенность ценностных ориентаций автора и героя составляет своего рода первооснову литературных произведений, их неявный стержень, ключ к их пониманию, порой обретаемый весьма нелегко. Отношение автора к герою может быть по преимуществу либо отчужденным, либо родственным, но не нейтральным. В литературных произведениях так или иначе наличествует дистанция между персонажем и автором. Она имеет место даже в автобиографическом жанре, где писатель с некоторого временного расстояния осмысливает собственный жизненный опыт. Автор может смотреть на своего героя как бы снизу вверх (жития святых), либо, напротив, сверху вниз (произведения обличительно-сатирического характера). Но наиболее глубоко укоренена в литературе (особенно последних столетий) ситуация сущностного равенства писателя и персонажа (не знаменующая, конечно же, их тождества). Пушкин настойчиво давал понять читателю «Евгения Онегина», что его герой принадлежит к тому же кругу, что и он сам («добрый мой приятель»). Литературные персонажи, однако, способны отделяться от произведений, в составе которых они появились на свет и жить в сознании публики самостоятельной жизнью, не подвластной авторской воле. Герои становятся своего рода символами определенного рода мироотношения и поведения, сохраняя одновременно свою неповторимость. Таковы Гамлет, Дон Кихот, Тариоф, Фауст, Пер Гюнт в составе общеевропейской культуры; для русского сознания -- Татьяна Ларина (в значительной мере благодаря трактовке ее образа Достоевским), Чацкий и Молчалин, Ноздрев и Манилов, Пьер Безухов и Наташа Ростова.