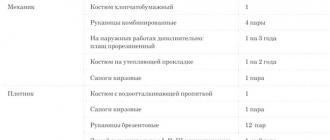Обломов 3 часть краткое по главам.
Гг., опубл.: полностью - в первых четырёх номерах журнала «Отечественные записки» за 1859 год, а глава «Сон Обломова» - в «Литературном сборнике» журнала «Современник» за 1849 год. Источник: Публичная электронная библиотека Евгения Пескина
В конце августа пошли дожди, и на дачах задымились трубы, где были печи, а где их не было, там жители ходили с подвязанными щеками, и наконец, мало-помалу, дачи опустели.
Обломов не казал глаз в город, и в одно утро мимо его окон повезли и понесли мебель Ильинских. Хотя уж ему не казалось теперь подвигом переехать с квартиры, пообедать где-нибудь мимоходом и не прилечь целый день, но он не знал, где и на ночь приклонить голову.
Оставаться на даче одному, когда опустел парк и роща, когда закрылись ставни окон Ольги, казалось ему решительно невозможно.
Он прошелся по ее пустым комнатам, обошел парк, сошел с горы, и сердце теснила ему грусть.
Он велел Захару и Анисье ехать на Выборгскую сторону, где решился оставаться до приискания новой квартиры, а сам уехал в город, отобедал наскоро в трактире и вечер просидел у Ольги.
Но осенние вечера в городе не походили на длинные, светлые дни и вечера в парке и роще. Здесь он уж не мог видеть ее по три раза в день; здесь уж не прибежит к нему Катя и не пошлет он Захара с запиской за пять верст. И вся эта летняя, цветущая поэма любви как будто остановилась, пошла ленивее, как будто не хватило в ней содержания.
Они иногда молчали по получасу. Ольга углубится в работу, считает про себя иглой клетки узора, а он углубится в хаос мыслей и живет впереди, гораздо дальше настоящего момента.
Только иногда, вглядываясь пристально в нее, он вздрогнет страстно, или она взглянет на него мимоходом и улыбнется, уловив луч нежной покорности, безмолвного счастья в его глазах.
Три дня сряду ездил он в город к Ольге и обедал у них, под предлогом, что у него там еще не устроено, что на этой неделе он съедет и оттого не располагается на новой квартире, как дома.
Но на четвертый день ему уж казалось неловко прийти, и он, побродив около дома Ильинских, со вздохом поехал домой.
На пятый день они не обедали дома.
На шестой Ольга сказала ему, чтоб он пришел в такой-то магазин, что она будет там, а потом он может проводить ее до дома пешком, а экипаж будет ехать сзади.
Все это было неловко; попадались ему и ей знакомые, кланялись, некоторые останавливались поговорить.
Ах ты, боже мой, какая мука! - говорил он весь в поту от страха и неловкого положения.
Тетка тоже глядит на него своими томными большими глазами и задумчиво нюхает свой спирт, будто у нее от него болит голова. А ездить ему какая даль! Едешь, едешь с Выборгской стороны да вечером назад - три часа!
Скажем тетке, - настаивал Обломов, - тогда я могу оставаться у вас с утра, и никто не будет говорить…
А ты в палате был? - спросила Ольга.
Обломова так и подмывало сказать: «был и все сделал», да он знает, что Ольга взглянет на него так пристально, что прочтет сейчас ложь на лице. Он вздохнул в ответ.
Ах, если б ты знала, как это трудно! - говорил он.
А говорил с братом хозяйки? Приискал квартиру? - спросила она потом, не поднимая глаз.
Его никогда утром дома нет, а вечером я все здесь, - сказал Обломов, обрадовавшись, что есть достаточная отговорка.
Теперь Ольга вздохнула, но не сказала ничего.
Завтра непременно поговорю с хозяйским братом, - успокаивал ее Обломов, - завтра воскресенье, он в присутствие не пойдет.
Пока это все не устроится, - сказала задумчиво Ольга, - говорить ma tante нельзя и видеться надо реже…
Да, да… правда, - струсив, прибавил Обломов.
Ты обедай у нас в воскресенье, в наш день, а потом хоть в среду, один, - решила она. - А потом мы можем видеться в театре: ты будешь знать, когда мы едем, и тоже поезжай.
Да, это правда, - говорил он, обрадованный, что она попечение о порядке свиданий взяла на себя.
Если ж выдастся хороший день, - заключила она, - я поеду в Летний сад гулять, и ты можешь прийти туда; это напомнит нам парк… парк! - повторила она с чувством.
Он молча поцеловал у ней руку и простился с ней до воскресенья. Она уныло проводила его глазами, потом села за фортепьяно и вся погрузилась в звуки. Сердце у ней о чем-то плакало, плакали и звуки. Хотела петь - не поется!
На другой день Обломов встал и надел свой дикий сюртучок, что носил на даче. С халатом он простился давно и велел его спрятать в шкаф.
Захар, по обыкновению, колебля подносом, неловко подходил к столу с кофе и кренделями. Сзади Захара, по обыкновению, высовывалась до половины из двери Анисья, приглядывая, донесет ли Захар чашки до стола, и тотчас, без шума, пряталась, если Захар ставил поднос благополучно на стол, или стремительно подскакивала к нему, если с подноса падала одна вещь, чтоб удержать остальные. Причем Захар разразится бранью сначала на вещи, потом на жену и замахнется локтем ей в грудь.
Какой славный кофе! Кто это варит? - спросил Обломов.
Сама хозяйка, - сказал Захар, - шестой день все она. «Вы, говорит, много цикорию кладете да не довариваете. Дайте-ко я!»
Славный, - повторил Обломов, наливая другую чашку. - Поблагодари ее.
Вон она сама, - говорил Захар, указывая на полуотворенную дверь боковой комнаты. - Это у них буфет, что ли; она тут и работает, тут у них чай, сахар, кофе лежит и посуда.
Обломову видна была только спина хозяйки, затылок и часть белой шеи да голые локти.
Что это она там локтями-то так живо ворочает? - спросил Обломов.
Кто ее знает! Кружева, что ли, гладит.
Обломов следил, как ворочались локти, как спина нагибалась и выпрямлялась опять.
Внизу, когда она нагибалась, видны были чистая юбка, чистые чулки и круглые, полные ноги.
«Чиновница, а локти хоть бы графине какой-нибудь; еще с ямочками!» - подумал Обломов.
В полдень Захар пришел спросить, не угодно ли попробовать их пирога: хозяйка велела предложить.
Сегодня воскресенье, у них пирог пекут!
Ну, уж, я думаю, хорош пирог! - небрежно сказал Обломов. - С луком да с морковью…
Пирог не хуже наших обломовских, - заметил Захар, - с цыплятами и с свежими грибами.
Ах, это хорошо должно быть: принеси! Кто ж у них печет? Это грязная баба-то?
Куда ей! - с презрением сказал Захар. - Кабы не хозяйка, так она и опары поставить не умеет. Хозяйка сама все на кухне. Пирог-то они с Анисьей вдвоем испекли.
Чрез пять минут из боковой комнаты высунулась к Обломову голая рука, едва прикрытая виденною уже им шалью, с тарелкой, на которой дымился, испуская горячий пар, огромный кусок пирога.
Покорно благодарю, - ласково отозвался Обломов, принимая пирог, и, заглянув в дверь, уперся взглядом в высокую грудь и голые плечи. Дверь торопливо затворилась.
Я не пью; покорно благодарю, - еще ласковее сказал Обломов. - У вас какая?
Своя, домашняя: сами настаиваем на смородинном листу, - говорил голос.
Я никогда не пивал на смородинном листу, позвольте попробовать!
Голая рука опять просунулась с тарелкой и рюмкой водки. Обломов выпил: ему очень понравилась.
Очень благодарен, - говорил он, стараясь заглянуть в дверь, но дверь захлопнулась.
Что вы не дадите на себя взглянуть, пожелать вам доброго утра? - упрекнул Обломов.
Хозяйка усмехнулась за дверью.
Я еще в будничном платье, все на кухне была. Сейчас оденусь; братец скоро от обедни придут, - отвечала она.
Ах, a propos о братце, - заметил Обломов, - мне надо с ним поговорить. Попросите его зайти ко мне.
Хорошо, я скажу, как они придут.
А кто это у вас кашляет? Чей это такой сухой кашель? - спросил Обломов.
Это бабушка; уж она у нас восьмой год кашляет.
И дверь захлопнулась.
«Какая она… простая, - подумал Обломов, - а есть в ней что-то такое… И держит себя чисто!»
До сих пор он с «братцем» хозяйки еще не успел познакомиться. Он видел только, и то редко, с постели, как, рано утром, мелькал сквозь решетку забора человек, с большим бумажным пакетом под мышкой, и пропадал в переулке, и потом, в пять часов, мелькал опять, с тем же пакетом, мимо окон, возвращаясь, тот же человек и пропадал за крыльцом. Его в доме не было слышно.
А между тем заметно было, что там жили люди, особенно по утрам: на кухне стучат ножи, слышно в окно, как полощет баба что-то в углу, как дворник рубит дрова или везет на двух колесах бочонок с водой; за стеной плачут ребятишки или раздается упорный, сухой кашель старухи.
У Обломова было четыре комнаты, то есть вся парадная анфилада. Хозяйка с семейством помешалась в двух непарадных комнатах, а братец жил вверху, в так называемой светелке.
Кабинет и спальня Обломова обращены были окнами на двор, гостиная к садику, а зала к большому огороду, с капустой и картофелем. В гостиной окна были драпированы ситцевыми полинявшими занавесками.
По стенам жались простые, под орех, стулья; под зеркалом стоял ломберный стол; на окнах теснились горшки с еранью и бархатцами и висели четыре клетки с чижами и канарейками.
Братец вошел на цыпочках и отвечал троекратным поклоном на приветствие Обломова. Вицмундир на нем был застегнут на все пуговицы, так что нельзя было узнать, есть ли на нем белье или нет; галстук завязан простым узлом и концы спрятаны вниз.
Он был лет сорока, с простым хохлом на лбу и двумя небрежно на ветер пущенными такими же хохлами на висках, похожими на собачьи уши средней величины. Серые глаза не вдруг глядели на предмет, а сначала взглядывали украдкой, а во второй раз уж останавливались.
Рук своих он как будто стыдился, и когда говорил, то старался прятать или обе за спину, или одну за пазуху, а другую за спину. Подавая начальнику бумагу и объясняясь, он одну руку держал на спине, а средним пальцем другой руки, ногтем вниз, осторожно показывал какую-нибудь строку или слово и, показав, тотчас прятал руку назад, может быть оттого, что пальцы были толстоваты, красноваты и немного тряслись, и ему не без причины казалось не совсем приличным выставлять их часто напоказ.
Вы изволили, - начал он, бросив свой двойной взгляд на Обломова, - приказать мне прийти к себе.
Да, я хотел поговорить с вами насчет квартиры. Прошу садиться! - вежливо отвечал Обломов.
Иван Матвеич, после двукратного приглашения, решился сесть, перегнувшись телом вперед и поджав руки в рукава.
По обстоятельствам я должен приискать себе другую квартиру, - сказал Обломов, - поэтому желал бы эту передать.
Теперь трудно передать, - кашлянув в пальцы и проворно спрятав их в рукав, отозвался Иван Матвеевич. - Если б в конце лета пожаловали, тогда много ходили смотреть…
Я был, да вас не было, - перебил Обломов.
Сестра сказывала, - прибавил чиновник. - Да вы не беспокойтесь насчет квартиры: здесь вам будет удобно. Может быть, птица вас беспокоит?
Какая птица?
Обломов хотя слышал постоянно с раннего утра под окнами тяжелое кудахтанье наседки и писк цыплят, но до того ли ему? Перед ним носился образ Ольги, и он едва замечал окружающее.
Нет, это ничего, - сказал он, - я думал, вы говорите о канарейках: они с утра начинают трещать.
Мы их вынесем, - отвечал Иван Матвеевич.
И это ничего, - заметил Обломов, - но мне, по обстоятельствам, нельзя оставаться.
Как угодно-с, - отвечал Иван Матвеевич. - А если не приищете жильца, как же насчет контракта? Сделаете удовлетворение?.. Вам убыток будет.
А сколько там следует? - спросил Обломов.
Да вот я принесу расчет.
Он принес контракт и счеты.
Вот-с, за квартиру восемьсот рублей ассигнациями, сто рублей получено задатку, осталось семьсот рублей, - сказал он.
Да неужели вы с меня за целый год хотите взять, когда я у вас и двух недель не прожил? - перебил его Обломов.
Как же-с? - кротко и совестливо возразил Иван Матвеевич. - Сестра убыток понесет несправедливо. Она бедная вдова, живет только тем, что с дома получит; да разве на цыплятах и яйцах выручит кое-что на одежонку ребятишкам.
Помилуйте, я не могу, - заговорил Обломов, - посудите, я не прожил двух недель. Что же это, за что?
Вот-с, в контракте сказано, - говорил Иван Матвеевич, показывая средним пальцем две строки и спрятав палец в рукав, - извольте прочесть: «Буде же я, Обломов, пожелаю прежде времени съехать с квартиры, то обязан передать ее другому лицу на тех же условиях или, в противном случае, удовлетворить ее, Пшеницыну, сполна платою за весь год, по первое июня будущего года», - прочитал Обломов.
Как же это? - говорил он. - Это несправедливо.
По закону так-с, - заметил Иван Матвеевич. - Сами изволили подписать: вот подпись-с!
Опять появился палец под подписью и опять спрятался.
Сколько же? - спросил Обломов.
Семьсот рублей, - начал щелкать тем же пальцем Иван Матвеевич, подгибая его всякий-раз проворно в кулак, - да за конюшню и сарай сто пятьдесят рублей.
И он щелкнул еще.
Помилуйте, у меня лошадей нет, я не держу: зачем мне конюшня и сарай? - с живостью возразил Обломов.
В контракте есть-с, - заметил, показывая пальцем строку, Иван Матвеевич. - Михей Андреич сказывал, что у вас лошади будут.
Врет Михей Андреич! - с досадой сказал Обломов. - Дайте мне контракт!
Вот-с, копию извольте получить, а контракт принадлежит сестре, - мягко отозвался Иван Матвеевич, взяв контракт в руку. - Сверх того, за огород и продовольствие из оного капустой, репой и прочими овощами, считая на одно лицо, - читал Иван Матвеевич, - примерно двести пятьдесят рублей…
И он хотел щелкнуть на счетах.
Какой огород? Какая капуста? Я и знать не знаю, что вы! - почти грозно возражал Обломов.
Вот-с, в контракте: Михей Андреич сказали, что вы с тем нанимаете.
Что же это такое, что вы без меня моим столом распоряжаетесь? Я не хочу ни капусты, ни репы… - говорил Обломов вставая.
Иван Матвеевич встал со стула.
Помилуйте, как можно без вас: вот подпись есть! - возразил он.
И опять толстый палец трясся на подписи, и вся бумага тряслась в его руке.
Сколько всего считаете вы? - нетерпеливо спросил Обломов.
Еще за окраску потолка и дверей, за переделку окон в кухне, за новые пробои к дверям - сто пятьдесят четыре рубля двадцать восемь копеек ассигнациями.
Как, и это на мой счет? - с изумлением спросил Обломов. - Это всегда на счет хозяина делается. Кто же переезжает в неотделанную квартиру?..
Вот-с, в контракте сказано, что на ваш счет, - сказал Иван Матвеевич, издали показывая пальцем в бумаге, где это сказано. - Тысячу триста пятьдесят четыре рубля двадцать восемь копеек ассигнациями всего-с! - кротко заключил он, спрятав обе руки с контрактом назади.
Да где я возьму? У меня нет денег! - возразил Обломов, ходя по комнате. - Нужно мне очень вашей репы да капусты!
Как угодно-с! - тихо прибавил Иван Матвеевич. - Да не беспокойтесь: вам здесь будет удобно, - прибавил он. - А деньги… сестра подождет.
Нельзя мне, нельзя по обстоятельствам! Слышите?
Слушаю-с. Как угодно, - послушно отвечал Иван Матвеевич, отступив на шаг.
Хорошо, я подумаю и постараюсь передать квартиру! - сказал Обломов, кивнув чиновнику головой.
Трудно-с; а впрочем, как угодно! - заключил Иван Матвеевич и, троекратно поклонясь, вышел вон.
Обломов вынул бумажник и счел деньги: всего триста пять рублей. Он обомлел.
«Куда ж я дел деньги? - с изумлением, почти с ужасом спросил самого себя Обломов. - В начале лета из деревни прислали тысячу двести рублей, а теперь всего триста!»
Куда ж это вышли деньги? - говорил он.
Захар, Захар!
Чего изволите?
Куда это у нас все деньги вышли? Ведь денег-то нет у нас! - спросил он.
Захар начал шарить в карманах, вынул полтинник, гривенник и положил на стол.
Вот, забыл отдать, от перевозки осталось, - сказал он.
Что ты мне мелочь-то суешь? Ты скажи, куда восемьсот рублей делись?
Почем я знаю? Разве я знаю, куда вы тратите? Что вы там извозчикам за коляски платите?
Да, вот на экипаж много вышло, - вспомнил Обломов, глядя на Захара. - Ты не помнишь ли, сколько мы на даче отдали извозчику?
Где помнить? - отозвался Захар. - Один раз вы велели мне тридцать рублей отдать, так я и помню.
Что бы тебе записывать? - упрекнул его Обломов. - Худо быть безграмотным!
Прожил век и без грамоты, слава богу, не хуже других! - возразил Захар, глядя в сторону.
«Правду говорит Штольц, что надо завести школу в деревне!» - подумал Обломов.
Вон у Ильинских был грамотный-то, сказывали люди, - продолжал Захар, - да серебро из буфета и стащил.
«Прошу покорнейше! - трусливо подумал Обломов. - В самом деле, эти грамотеи - все такой безнравственный народ: по трактирам, с гармоникой, да чаи… Нет, рано школы заводить!..»
Ну, куда еще вышли деньги? - спросил он.
Почем я знаю? Вон, Михею Андреичу дали на даче…
В самом деле, - обрадовался Обломов, вспомнив про эти деньги. - Так вот, извозчику тридцать да, кажется, двадцать пять рублей Тарантьеву… Еще куда?
Он задумчиво и вопросительно глядел на Захара. Захар угрюмо, стороной, смотрел на него.
Не помнит ли Анисья? - спросил Обломов.
Где дуре помнить? Что баба знает? - с презрением сказал Захар.
Не припомню! - с тоской заключил Обломов. - Уж не воры ли были?
Кабы воры, так все бы взяли, - сказал Захар уходя.
Обломов сел в кресло и задумался. «Где же я возьму денег? - до холодного пота думал он. - Когда пришлют из деревни и сколько?»
Он взглянул на часы: два часа, пора ехать к Ольге. Сегодня положенный день обедать. Он мало-помалу развеселился, велел привести извозчика и поехал в Морскую.
Социально-психологический роман-долгострой «Обломов» включает в себя элементы автобиографии писателя. На написание произведения большое влияние оказало выступление Белинского с речью о первом романе Гончарова «Обыкновенная история». В тот же момент у Ивана Александровича появился замысел его следующей книги. Автор утверждает, что имеет некоторые общие черты с главным героем романа «Обломов». Также он раскрывает понятие «обломовщина». Для полного понимания этого литературного феномена призываем вас прочитать .
Глава 1
Помещик Илья Ильич Обломов живет в Петербурге вместе со своим слугой Захаром Тимофеевичем (вот его полная ). Барину лет за тридцать. Средства получает от имения Обломовка. Илья — добрый и весьма приятный на вид. Пожалуй, главный недостаток его внутренних качеств кроется в обыкновенной лени.
Лежание на диване — это нормальное состояние Ильи Ильича. Его любимый халат и мягкий диван являются самыми лучшими друзьями для повседневного времяпровождения.
Однажды Обломов получает письмо от старосты Обломовки. В письме содержится информация о критическом состоянии урожая, вместе с тем он не забывает упомянуть про экономические проблемы. А в это время хозяин просит Илью Ильича освободить свою квартиру. Герой не знает, куда податься, и эти проблемы представляются я ему не решаемыми. Но он и пальцем не шевельнет, чтобы попытаться решить их. Ему остается лишь изливать душу Захару в бессильном унынии.
Глава 2
Обломова, поочерёдно навещают Волков, Судьбинский, Пенкин и Алексеев. Все они приглашают Илью Ильича в Екатерингоф. Обломов отказывается, придумывая различные оправдания. Каждый гость рассказывает помещику о своей жизни, делах и достижениях.
Всех гостей настолько волнуют собственные проблемы, что они вовсе забывают о жизни Обломова, его недугах и даже не желают хоть как-то помогать ему. Он является для них удобным слушателем, которому всегда можно поверить тайны.
Глава 3
Тарантьев приходится Обломову последним гостем. Мошенник и негодяй любит наводить много шума, из-за чего хозяин, хоть немного, но взбадривается. Последние гости Ильи Ильича хоть как-то спасают помещика от повседневной рутины. Хотя он не жалуется на скуку, праздности ему вполне хватает.
Также в этой главе упоминается лучший друг и, пожалуй, единственный приятный гость помещика — Андрей Иванович Штольц, которого Илья Обломов, несомненно, ждёт и готов принять его в абсолютно любое время. Только энергичный и напористый Штольц может помочь ему избежать проблем и решить насущные задачи. Они вместе росли, и герой полностью доверяет другу детства (вот их ).
Глава 4
Обломова всё волнуют проблемы с жильём. Даже самые активные гости неприятны Илье Ильичу. Казалось бы, кто может помочь Обломову?
Земляк Ильи Ильича Тарантьев предлагает помещику переехать к его куме. Обломов категорически отказывается, и вскоре гости разошлись. Тарантьев не забыл упрекнуть старосту, отправившего письмо, в мошенничестве. Хотя ему ли судить? Он сам ходит к герою не просто так, видя в нем человека, которого легко провести вокруг пальца.
Глава 5
Автор переходит к рассказу о жизни Ильи Обломова ( мы описали ее подробно). Там же появляются ответы на вопросы: почему Илья Ильич стал таким ленивым, какие поражения ему приходилось переживать, и какие люди не бросали его в беде.
Обломов прожил в Петербурге больше десяти лет. В связи со смертью родителей, он стал владельцем поместья в отдаленной губернии. Со временем Илья Ильич все больше понимал, что стоит на месте, как бы он не двигался, и не пытался подниматься по карьерной лестнице. Илья едва проходил службу, но одна большая ошибка послужила Обломову важным уроком. Он отправил не туда одну очень важную бумагу. Обломов, не дождавшись приказа от начальства, решает лично подать в отставку. Илья Ильич со временем сильно разленился, прекратил общение с друзьями, но лучший друг детства Андрей Штольц ( его подробная характеристика) все же не оставался в стороне и кое-как помогал герою разнообразить его же жизнь.
Глава 6
Обломов являлся истинным ценителем поэзии. К сожалению, только поэзия и была Илье Ильичу по душе. Остальные же виды литературы Обломову были чужды. В рифмах и изящном слоге он находил почву для мечтаний.
Илья Ильич учился в пансионате. Его практически всю жизнь ничего не интересовало. Да и большое влияние на нелюбовь к учёбе оказала лень. Тем не менее, Штольц заставлял своего друга читать книги, хотя Обломов отказывался и не хотел этого.
Глава 7
Прислуга Обломова, Захар Тимофеевич, был ворчливым и конфликтным, очень плохо исполнял свои обязанности и даже упрекал барина, зная его бесхарактерность. Ему лет за пятьдесят. Любит гулять за счёт своего хозяина. Мы описали его
Захар полностью верен Илье Ильичу. С самого детства Ильи Захар служит Обломовым верным слугой и выполняет все необходимые условия, хоть и не очень тщательно. Да и он сам от этого получает немало опыта и важных жизненных уроков.
Глава 8
Захар и Обломов снова конфликтуют друг с другом. Буйство прерывает врач с сообщением о том, что, если Обломов не поменяет свой образ жизни, то года через два у него обязательно случится удар.
Конфликт произошёл в связи с переездом в другое жильё. Обломов часто не соглашался с Захаром, а слуга пытался переубедить барина. Илья Ильич снова задумался о себе, своих действиях и поступках. Оттого Обломова все больше одолевало горе, да и печали тоже не было предела. Слишком уж тяжелым и безрадостным представлялся переезд.
Глава 9. «Сон Обломова»
Не переставая размышлять, грустить и беспокоиться о своей нынешней жизни, Обломов засыпает. Ему снится сон, где он видит своё детство. Вот
Илюше лет семь. Он просыпается в своей кроватке, и няня одевает его перед семейным завтраком. Под надзором крепостной бабы, маленький мальчик выходит на прогулку. Родители занимаются своими делами. День идёт абсолютно неспешно. Няня рассказывает ребенку страшные истории, где к счастливому финалу может привести только добрая волшебница.
Илья Ильич вырос, и он прекрасно понимает, что в реальной жизни нет никакой сказки. От того он вновь печалится. Размеренная и праздная рутина деревни кажется ему раем, от которого он отлучен жестокой судьбой.
Глава 10
Стало известно, что в округе в адрес Обломова поступает немало нелестных высказываний и серьёзных претензий со стороны других слуг. Они попросту презирают его ничтожный и однообразный быт.
Захар, который намеревался побеседовать с этими самыми слугами, встаёт на сторону себя и своего хозяина. Однако в планах слуги было нажаловаться на барина, пока он спит, и рассказать о его главных недостатках.
Глава 11
К Обломову приезжает Андрей Штольц. В это время Захар пытается разбудить Илью Ильича, но попытки безуспешны, ведь хозяин сопротивляется и решает спать дальше.
Андрею становится от этого весьма забавно, ведь ему удалось пронаблюдать за всем этим событием.
Часть вторая
Глава 1
Андрей Иванович Штольц имеет русско-немецкие корни. Мать видела в Андрюше истинного барина и красивого мужчину, отец же учил сына агрономии и возил его по фабрикам (). Окружение Штольца было полностью уверено в самостоятельности мальчика. Тем не менее, со стороны родных и близких беспокойства все же возникали. С самого детства Андрей Иванович приучен к самостоятельности, умению справляться со сложными задачами и ответственности.
Андрей проучился в университете. Его отец также был уверен в самостоятельности своего сына и поэтому отправил его в Петербург с вещами на лошадях после окончания учебы. Андрей Штольц — обеспеченный мужчина, который владеет компанией по поставке товаров за рубеж, имеет собственный дом и остаётся таким же продуктивным и трудолюбивым человеком. Обломов полностью доверяет ему во всем.
Глава 2
Андрей Иванович и Илья Ильич – ровесники. Штольц очень трудолюбивый и активный человек. Обломов ленивый и абсолютно несерьёзный. Но зато они два очень близких друг другу товарища, которые находят утешение в беседе. А дружат эти люди с самого детства.
Глава 3
Илья Ильич рассказывает Андрею Ивановичу о своих проблемах. Штольц искренне рад видеть своего давнего товарища.
Обломов повествует другу о том, какие у него трудности с деньгами, о переезде в другое жилище. Илья Ильич не забывает и о шутках по поводу своего здоровья. Но Штольц не видит в этом ничего проблематичного. Андрей удивляется от того, что его лучший друг сильно разленился. Штольц решает помочь товарищу. Он приказывает слуге Обломова принести приличную одежду и выпроводить хитрого Тарантьева. Лучший друг Ильи Ильича намеревается вернуть товарища в люди.
Глава 4
Всю неделю Обломов, вместе со своим другом, разъезжал по различным обществам, что вызывало крайнее недовольство у Ильи Ильича. Ему приходятся по душе умиротворенность и абсолютная тишина, а тут нужно носить очень неудобную одежду и терпеть постоянный шум, беседовать с пустоголовыми и лицемерными людьми, с которыми у него нет ничего общего.
Илья Ильич рассказывает об Обломовке, о гармонии и спокойствии дома. Штольц считает это «обломовщиной», а не жизнью. Беседа приводит к тому, что Обломову нужно побывать за границей, а потом поехать в деревню. Итогом визитов становится знакомство Ильи Обломова с Ольгой Ильинской (вот ее ).
Глава 5
Возникает Обломовский вопрос. Вопрос заключается в следующем: идти вперёд или остаться? Герой принял решение пойти вперёд, но попытки оказываются едва ли успешными. Илья Ильич должен был приехать к другу в Париж, документы и вещи были полностью готовы, пока помещика не укусила за губу муха. Губа распухла, и отъезд суждено отложить. Обломова также обеспокоили слова друга об “обломовщине”.
Несмотря на то, что Обломов долго не отъезжал от дома и не отвечал на письма Штольца, он становится более уверенным в своих поступках и испытывает любовь к Ольге Ильинской. Мечтает и думает о недавней знакомой с трепетом и томлением.
Глава 6
Илья Обломов стал проводить много времени с Ольгой Сергеевной. Ольга любит петь и делает это хорошо. Однажды в момент пения девушки, Илья Ильич признаётся ей в своих чувствах.
Признание выглядит нелепо. Он не может внятно рассказать даме о своих чувствах к ней. Ольга сердится на Илью некоторое время, но решает простить ему это.
Глава 7
Слуга Ильи Ильича, Захар женится на Анисье. Если меняется Обломов, значит, меняется и его окружение.
Тётя Ольги Сергеевны приглашает героя на ужин. Илья Ильич пытается найти у себя сходства со Штольцем, однако все это наивные предположения, и за ужином Ольга выглядит абсолютно серьёзно, как будто объяснения между ними не бывало.
Глава 8
Обломов провёл весь день у тети Ольги Сергеевны. Тётя для героини была примером для подражания. День в целом прошёл скучно и грустно. Обломов ушёл разочарованным, хотя вёл себя весьма культурно, даже умудрялся помогать и угождать во всём тёте.
Неожиданно для Ильи Ильича, Ольга сама назначила свидание, когда Обломов решается покинуть город. При встрече, Ольга и Илья признаются друг другу в чувствах. Герой был счастлив от того, что дама сердца согласилась на отношения с ним (подробнее о теме любви в романе мы написали ).
Глава 9
Обломов и Ильинская, понимая, что между ними есть любовь, находят больше смысла в жизни. Девушка хочет спасти и перевоспитать ленивого ухажера, принести себя в жертву этому благородному рвению. А ее кавалер хочет стать достойным искателем ее руки.
Илья и Ольга стали проводить больше времени за чтением. Ильинская избавляла своего мужчину от безделья, и они все чаще навещали гостей. Она любила Илью Ильича по-особенному: мало говорила о любви, но и без него ей было очень трудно. Тем не менее, герой влюбился в образ своей возлюбленной, красивой и эффектной барышни с сильным характером.
Глава 10
На следующий день, Обломов стал все больше осознавать, что любовь Ольги не настоящая. Что слова о любви остаются лишь пустым звуком. Она лишь забавляется игрой в перевоспитание, как будто дрессирует собаку. Илья Ильич решает написать женщине письмо о расставании, ведь чувствует себя недостойным ее и неспособным на те перемены, которых она ждет.
Илья Ильич отдаёт письмо горничной Ольги. Обломов знает, что она будет идти по парку, и решил спрятаться в кустах. Видя, что она плачет, Илья не сдерживается и подбегает к женщине. Дама упрекает Илью в том, что ему нужно от неё одно «люблю». Однако Ольга Сергеевна увидела в послании всю трепетную нежность кавалера. Мужчина извиняется перед ней. Героиня все прощает и думает, как сгладить ситуацию.
В итоге Ильинская и Обломов остаются снова в отношениях, и счастливая Ольга бежит к себе домой.
Глава 11
Проблема в Обломовке так и остаётся не решённой. Штольц сообщает об этом своему другу, не забыв при этом пригласить его побывать с ним за границей. Герою абсолютно лень ехать в имение, собственно, как и за границу, он трепещет, боясь хоть день не увидеть Ольгу.
Поэтому Илья Ильич просит о помощи своего соседа-помещика. Тем не менее, любовь к Ольге остаётся для него очень важной в такой момент, и решать, казалось бы, важные дела ему совсем не хотелось.
Глава 12
Какой бы сильной не была любовь Ольги и Ильи, пара вынуждена скрывать свои отношения от посторонних глаз, дабы не вызвать сплетен и пересудов.
Обломов делает предложение Ольге Сергеевне. У пары происходит первый поцелуй. Но Ольга и Илья решают пока никому не говорить об этом, и стоит все-таки закончить дела в имении Обломовка. С таким шатким финансовым положением у героя нет шансов достойно посвататься к невесте.
Часть третья
Глава 1
Мошенник Тарантьев вновь просит денег у Ильи Обломова. Герой всё же переехал к куме в Выборгскую сторону, но пока что там не проживает. В связи с этим, пройдоха не получил от Обломова ни копейки.
Илья Ильич в хорошем настроении едет к своей возлюбленной. Ольга напоминает ему о проблемах в Обломовке, проблемах с жильём. Лишь решив некоторые из них, можно будет рассказать тёте про свадьбу и рассчитывать на ее благословение.
Глава 2
Целью Обломова являлся отказ от проживания в квартире кумы Тарантьева, он чувствует подвох в этом деле.
Илья, приехавши в квартиру, встречает куму Агафью Матвеевну. В итоге, он решает отказаться от проживания в квартире и уехать к себе обратно, передав хозяйке, что помещение больше не нужно.
Глава 3
Ольга не перестаёт напоминать своему возлюбленному о решении вопроса, связанного с квартирой и Обломовкой, а сама ситуация затягивается все больше. Женщина стала говорить с Обломовым в более серьёзном и приказном тоне.
Герой всё-таки переехал к Пшеницыной, Ольга всё больше грустит и не уверена в отношениях с Ильёй Ильичом, а вопрос о долге хозяйке квартиры нарастает всё больше. Да и другие квартиры стоят очень немало денег.
Глава 4
Илья Ильич уживается в квартире у кумы Агафьи Матвеевны Пшеницыной. Там он видит праздность и медлительность родной Обломовки.
Илья и Ольга по-прежнему встречаются. Обломова приглашают в ложу Ильинских. Захара заинтересовал вопрос свадьбы и жилья хозяина. Илья Ильич утверждает, что свадьба выходит слишком затратной, и ее не будет. К тому же, мужчину расстраивают сплетни об их отношениях с Ольгой Ильинской. Он и сам уже ни в чем не уверен.
Глава 5
Свидание Ольги Сергеевны и Ильи Ильича. Ольга присылает письмо Илье о приглашении, поскольку сильно по нему соскучилась.
Все вокруг уже давно знают об их отношениях. Женщина предлагает рассказать об этом ее тёте. Герой утверждает, что проблемы полностью до сих пор не решены и стоит с этим вновь повременить.
Глава 6
Ольга Сергеевна пригласила Илью Ильича на обед. В связи с тем, что Обломова расстраивают очередные сплетни, Илья говорит своей даме, что простудился.
Илья Ильич и Ольга Сергеевна до сих пор не встретились, а на дворе уже во всю воцарила зима. Прошло очень немало времени, с момента последней их встречи.
Глава 7
Ольга исчерпала кучу попыток, чтобы вновь встретиться со своим возлюбленным Ильей.
В это время Обломов притворяется больным и все больше проводит времени с Агафьей Матвеевной и её детьми. Ольга Сергеевна приезжает к жениху сама, будучи в нервном состоянии.
Глава 8
Захар даёт Обломову письмо, полученное от соседа, на коего помещик сильно рассчитывал. Сосед, в грубой манере и неприятными словами, обращается к Илье Ильичу и отказывает ему в помощи из-за более важных дел.
Это крах всех надежд на улаживание проблем с имением. Сам барин уже не чувствует ни малейшей охоты ими заниматься, он окончательно пустил корни в новой обстановке.
Глава 9
В жизни главного героя действительно оказываются большие неприятности. Женитьба остаётся под большим вопросом. Денег практически не осталось. А занимать у кого-либо Обломов никак не намеревается.
Мухояров, воспользовавшись случаем, предлагает на место управляющего имения своего сослуживца господина Затертого, все они хотят лишь одного – обобрать доверчивого человека до нитки.
Глава 10
Илья Ильич Обломов соглашается с предложением о замене управляющего. Он совсем обессилел от волнений и стресса.
Мошенники Мухояров и Тарантьев по-настоящему довольны. Им удалось обмануть Обломова, и теперь остаётся, под видом правильного и добропорядочного управляющего, выманивать деньги из имения.
Глава 11
Обломов сообщает своей даме о том, что нашёлся человек, способный уладить накопившиеся проблемы, а свадьбу придётся перенести вновь. Ольга падает в обморок.
Очнувшись, она обвиняет жениха в нерешительности и в том, что он мучает их обоих. Ольга и Илья расстаются. Герой чувствует одновременно печаль и облегчение.
Глава 12
Илья Обломов полон разочарования, горя и отчаяния. Герой гуляет по городу, напивается до потери памяти.
Слуги находят Обломова утром дома в состоянии горячки. Захар и другие слуги замечают это и пытаются привести барина в сознание. Илья приходит в себя.
Часть четвёртая
Глава 1
Проходит ровно год с момента расставания Ильи Ильича и Ольги Сергеевны. Обломов живет у Агафьи Матвеевны. Илья Ильич влюбляется в Агафью. Хозяйка пошла навстречу барину и испытывает те же тихие и почтительные чувства.
В Обломовке все наладилось. Деньги снова на месте. Илья Обломов постепенно забывает о горе и становится вновь счастливым.
Глава 2
В честь Иванова дня Агафья Матвеевна устраивает праздник. На мероприятие приезжает друг Обломова, Андрей Штольц.
Андрей Иванович рассказывает о судьбе Ольги Сергеевны и ее тети, о выезде за границу, а также намеревается выманить своего друга из привычного круговорота праздности, хандры и сна. Обломов соглашается на выезд.
Глава 3
Тарантьев и Мухояров узнают, что в имение приехал Андрей Иванович Штольц. Мошенники обеспокоены данным визитом.
Волнение вызывает тот факт, что Андрей Иванович может узнать о взятии мошенниками оброка с поместья. Тарантьев и Мухояров решают шантажировать Обломова. В итоге страх мошенников оказывается не напрасным. Штольц действительно узнал о замысле негодяев и приводит дела в порядок.
Глава 4
В данной главе рассказывается о встрече и об отношениях Штольца с Ильинской.
Штольц, случайным образом, встречает в Париже Ольгу Сергеевну и ее тётю. Андрей Иванович проводит с женщиной много времени. Она никак не может отпустить мысли об Обломове и переживает за новые отношения. Тем не менее, когда между Андреем Ивановичем и Ольгой Сергеевной завязывается роман, Штольц решается сделать девушке предложение руки и сердца. Она соглашается.
Глава 5
Илья Обломов снова разленился. Его жизнь стала ещё скучнее и куда мрачнее.
Брат Агафьи Матвеевны Иван считает деньги Обломова. Иван женился, и у Ильи Ильича появляются очередные финансовые проблемы. Герой не берётся брать на себя хоть какое-либо дело.
Глава 6
Штольц вновь навещает своего друга детства.
Андрей Иванович рассказывает Обломову об их отношениях с Ольгой. Илья Ильич жалуется другу на финансовые проблемы. В дружеской беседе герой не забывает упомянуть и о долге хозяйке.
Деятельный предприниматель удивляется от недостатка денег у Обломова. Агафье Матвеевне приходится работать за своего возлюбленного. Она же уверяет Штольца, что Илья никому ничего не должен.
Глава 7
Друг Обломова заполняет бумагу об указании, что Илья Ильич ничего никому не должен. Однако Иван Матвеевич снова пользуется случаем и решает подставить Илью Ильича.
Обломов узнает об обмане Тарантьева. Илья Ильич избивает брата Агафьи и выгоняет его из дома.
Штольц решает не брать Обломова с собой, оставив друга на месяц. Андрей Иванович не забывает предупредить Илью Ильича об опасности чувств к Агафье Матвеевне.
Глава 8
Андрей Штольц и Ольга Ильинская живут в гармонии и радости друг с другом. Однако между ними назревает разговор об Обломове.
Штольц признаётся, что он хотел свести Илью Ильича с Ольгой Сергеевной. Женщина, по приезду в Петербург, просит своего мужа навестить беднягу, которого она все также жалеет.
Глава 9
Лучший друг Обломова уладил все дела в имении. Деньги снова появились, однако Илья Ильич все также продолжал лежать на диване и наблюдать за делами Агафьи Матвеевны.
У Обломова случается апокалиптичный удар. Врач посоветовал Илье Ильичу сменить образ жизни и побольше двигаться. Пациент отказывается от условий врача, настолько он врос в свой диван.
Штольц пытается уговорить друга поехать с ним. Обломов отказывается, но Андрей Иванович говорит, что Ольга ждёт его в карете. Илья Ильич оправдывается тем, что у него есть жена и сын. Штольц уходит расстроенный, сказав супруге, что в доме друга воцарилась «обломовщина».
Глава 10
Спустя три года у Обломова снова случается удар, вследствие чего Илья Ильич скончался.
В доме живут брат Агафьи и его жена. Андрей Штольц приютил сына Обломова к себе. Вдова Ильи Ильича не хочет ехать к Штольцу.
Глава 11
Однажды Штольц случайно встречает Захара. Бывший слуга Обломова потерянный и несчастный. Он не хочет никуда уходить от могилы своего хозяина.
На вопрос о смерти своего товарища, Штольц называет его болезнь «обломовщиной».
Интересно? Сохрани у себя на стенке!"Обломов - 03"
* ЧАСТЬ ВТОРАЯ *
Штольц был немец только вполовину, по отцу: мать его была русская; веру он исповедовал православную; природная речь его была русская: он учился ей у матери и из книг, в университетской аудитории и в играх с деревенскими мальчишками, в толках с их отцами и на московских базарах. Немецкий же язык он наследовал от отца да из книг.
В селе Верхлеве, где отец его был управляющим, Штольц вырос и воспитывался.
С восьми лет он сидел с отцом за географической картой, разбирал по складам Гердера, Виланда, библейские стихи и подводил итоги безграмотным счетам крестьян, мещан и фабричных, а с матерью читал священную историю, учил басни Крылова и разбирал по складам же Телемака.
Оторвавшись от указки, бежал разорять птичьи гнезда с мальчишками, и нередко, среди класса или за молитвой, из кармана его раздавался писк галчат.
Бывало и то, что отец сидит в послеобеденный час под деревом в саду и курит трубку, а мать вяжет какуюнибудь фуфайку или вышивает по канве; вдруг с улицы раздается шум, крики, и целая толпа людей врывается в дом.
Что такое? - спрашивает испуганная мать.
Верно, опять Андрея ведут, - хладнокровно говорит отец.
Двери размахиваются, и толпа мужиков, баб, мальчишек вторгается в сад.
В самом деле, привели Андрея - но в каком виде: без сапог, с разорванным платьем и с разбитым носом или у него самого, или у другого мальчишки.
Мать всегда с беспокойством смотрела, как Андрюша исчезал из дома на полсутки, и если б только не положительное запрещение отца мешать ему, она бы держала его возле себя.
Она его обмоет, переменит белье, платье, и Андрюша полсутки ходит таким чистеньким, благовоспитанным мальчиком, а к вечеру, иногда и к утру, опять его кто-нибудь притащит выпачканного, растрепанного, неузнаваемого, или мужики привезут на возу с сеном, или, наконец, с рыбаками приедет он на лодке, заснувши на неводу.
Мать в слезы, а отец ничего, еще смеется.
Добрый бурш будет, добрый бурш! - скажет иногда.
Помилуй, Иван Богданыч, - жаловалась она, - не проходит дня, чтоб он без синего пятна воротился, а намедни нос до крови разбил.
Что за ребенок, если ни разу носу себе или другому не разбил? -
говорил отец со смехом.
Мать поплачет, поплачет, потом сядет за фортепьяно и забудется за
слезы каплют одна за другой на клавиши. Но вот приходит Андрюша или его приведут; он начнет рассказывать так бойко, так живо, что рассмешит и ее, притом он такой понятливый! Скоро он стал читать Телемака, как она сама, и играть с ней в четыре руки.
Однажды он пропал уже на неделю: мать выплакала глаза, а отец ничего -
ходит по саду да курит.
Вот, если б Обломова сын пропал, - сказал он на предложение жены поехать поискать Андрея, - так я бы поднял на ноги всю деревню и земскую полицию, а Андрей придет. О, добрый бурш!
На другой день Андрея нашли преспокойно спящего в своей постели, а под кроватью лежало чье-то ружье и фунт пороху и дроби.
Где ты пропадал? Где взял ружье? - засыпала мать вопросами. - Что ж молчишь?
Так! - только и было ответа.
Отец спросил: готов ли у него перевод из Корнелия Непота на немецкий язык.
Нет, - отвечал он.
Отец взял его одной рукой за воротник, вывел за ворота, надел ему на голову фуражку и ногой толкнул сзади так, что сшиб с ног.
Ступай, откуда пришел, - прибавил он, - и приходи опять с переводом, вместо одной, двух глав, а матери выучи роль из французской комедии, что она задала: без этого не показывайся!
Андрей воротился через неделю и принес и перевод и выучил роль.
Когда он подрос, отец сажал его с собой на рессорную тележку, давал вожжи и велел везти на фабрику, потом в поля, потом в город, к купцам, в присутственные места, потом посмотреть какую-нибудь глину, которую возьмет на палец, понюхает, иногда лизнет, и сыну даст понюхать, и объяснит, какая она, на что годится. Не то так отправятся посмотреть, как добывают поташ или деготь, топят сало.
Четырнадцати, пятнадцати лет мальчик отправлялся частенько один, в тележке или верхом, с сумкой у седла, с поручениями от отца в город, и никогда не случалось, чтоб он забыл что-нибудь, переиначил, недоглядел, дал промах.
Recht gut, mein lieber Junge! - говорил отец, выслушав отчет, и, трепля его широкой ладонью по плечу, давал два, три рубля, смотря по важности поручения.
Мать после долго отмывает копоть, грязь, глину и сало с Андрюши.
Ей не совсем нравилось это трудовое, практическое воспитание. Она боялась, что сын ее сделается таким же немецким бюргером, из каких вышел отец. На всю немецкую нацию она смотрела как на толпу патентованных мещан, не любила грубости, самостоятельности и кичливости, с какими немецкая масса предъявляет везде свои тысячелетием выработанные бюргерские права, как корова носит свои рога, не умея, кстати, их спрятать.
На ее взгляд, во всей немецкой нации не было и не могло быть ни одного джентльмена. Она в немецком характере не замечала никакой мягкости, деликатности, снисхождения, ничего того, что делает жизнь так приятною в хорошем свете, с чем можно обойти какое-нибудь правило, нарушить общий обычай, не подчиниться уставу.
Нет, так и ломят эти невежи, так и напирают на то, что у них положено, что заберут себе в голову, готовы хоть стену пробить лбом, лишь бы поступить по правилам.
Она жила гувернанткой в богатом доме и имела случай быть за границей, проехала всю Германию и смешала всех немцев в одну толпу курящих коротенькие трубки и поплевывающих сквозь зубы приказчиков, мастеровых, купцов, прямых, как палка, офицеров с солдатскими и чиновников с будничными лицами, способных только на черную работу, на труженическое добывание денег, на пошлый порядок, скучную правильность жизни и педантическое отправление обязанностей: всех этих бюргеров, с угловатыми манерами, с большими, грубыми руками, с мещанской свежестью в лице и с грубой речью.
"Как ни наряди немца, - думала она, - какую тонкую и белую рубашку он ни наденет, пусть обуется в лакированные сапоги, даже наденет желтые перчатки, а все он скроен как будто из сапожной кожи; из-под белых манжет все торчат жесткие и красноватые руки, и из-под изящного костюма выглядывает если не булочник, так буфетчик. Эти жесткие руки так и просятся приняться за шило или много-много - что за смычок в оркестре".
А в сыне ей мерещился идеал барина, хотя выскочки, из черного тела, от отца-бюргера, но все-таки сына русской дворянки, все-таки беленького, прекрасно сложенного мальчика, с такими маленькими руками и ногами, с чистым лицом, с ясным, бойким взглядом; такого, на каких она нагляделась в русском богатом доме, и тоже за границею, конечно не у немцев.
И вдруг он будет чуть не сам ворочать жернова на мельнице, возвращаться домой с фабрик и полей, как отец его: в сале, в навозе, с красно-грязными, загрубевшими руками, с волчьим аппетитом!
Она бросалась стричь Андрюше ногти, завивать кудри, шить изящные воротнички и манишки; заказывала в городе курточки; учила его прислушиваться к задумчивым звукам Герца, пела ему о цветах, о поэзии жизни, шептала о блестящем призвании то воина, то писателя, мечтала с ним о высокой роли, какая выпадает иным на долю...
И вся эта перспектива должна сокрушаться от щелканья счетов, от разбиранья замасленных расписок мужиков, от обращения с фабричными!
Она возненавидела даже тележку, на которой Андрюша ездил в город, и клеенчатый плащ, который подарил ему отец, и замшевые зеленые перчатки - все грубые атрибуты трудовой жизни.
На беду, Андрюша отлично учился, и отец сделал его репетитором в своем маленьком пансионе.
Ну, пусть бы так; но он положил ему жалованье, как мастеровому, совершенно по-немецки: по десяти рублей в месяц, и заставлял его расписываться в книге.
Утешься, добрая мать: твой сын вырос на русской почве - не в будничной толпе, с бюргерскими коровьими рогами, с руками, ворочающими жернова.
Вблизи была Обломовка: там вечный праздник! Там сбывают с плеч работу, как иго; там барин не встает с зарей и не ходит по фабрикам около намазанных салом и маслом колес и пружин.
Да и в самом Верхлеве стоит, хотя бо"льшую часть года пустой, запертой дом, но туда частенько забирается шаловливый мальчик, и там видит он длинные залы и галереи, темные портреты на стенах, не с грубой свежестью, не с жесткими большими руками, - видит томные голубые глаза, волосы под пудрой, белые, изнеженные лица, полные груди, нежные с синими жилками руки в трепещущих манжетах, гордо положенные на эфес шпаги; видит ряд благородно-бесполезно в неге протекших поколений, в парче, бархате и кружевах.
Он в лицах проходит историю славных времен, битв, имен; читает там повесть о старине, не такую, какую рассказывал ему сто раз, поплевывая, за трубкой, отец о жизни в Саксонии, между брюквой и картофелем, между рынком и огородом...
Года в три раз этот замок вдруг наполнялся народом, кипел жизнью, праздниками, балами; в длинных галереях сияли по ночам огни.
Приезжали князь и княгиня с семейством: князь, седой старик, с выцветшим пергаментным лицом, тусклыми навыкате глазами и большим плешивым лбом, с тремя звездами, с золотой табакеркой, с тростью с яхонтовым набалдашником, в бархатных сапогах; княгиня - величественная красотой, ростом и объемом женщина, к которой, кажется, никогда никто не подходил близко, не обнял, не поцеловал ее, даже сам князь, хотя у ней было пятеро детей.
Она казалась выше того мира, в который нисходила в три года раз; ни с кем не говорила, никуда не выезжала, а сидела в угольной зеленой комнате с тремя старушками, да через сад, пешком, по крытой галерее, ходила в церковь и садилась на стул за ширмы.
Зато в доме, кроме князя и княгини, был целый, такой веселый и живой мир, что Андрюша детскими зелененькими глазками своими смотрел вдруг в три или четыре разные сферы, бойким умом жадно и бессознательно наблюдал типы этой разнородной толпы, как пестрые явления маскарада.
Тут были князья Пьер и Мишель, из которых первый тотчас преподал
Андрюше, как бьют зорю в кавалерии и пехоте, какие сабли и шпоры гусарские и какие драгунские, каких мастей лошади в каждом полку и куда непременно надо поступить после ученья, чтоб не опозориться.
Другой, Мишель, только лишь познакомился с Андрюшей, как поставил его в позицию и начал выделывать удивительные штуки кулаками, попадая ими Андрюше то в нос, то в брюхо, потом сказал, что это английская драка.
Дня через три Андрей, на основании только деревенской свежести и с помощью мускулистых рук, разбил ему нос и по английскому и по русскому способу, без всякой науки, и приобрел авторитет у обоих князей.
Были еще две княжны, девочки одиннадцати и двенадцати лет, высокенькие, стройные, нарядно одетые, ни с кем не говорившие, никому не кланявшиеся и боявшиеся мужиков.
Была их гувернантка, m-lle Ernestine, которая ходила пить кофе к матери
Андрюши и научила делать ему кудри. Она иногда брала его голову, клала на колени и завивала в бумажки до сильной боли, потом брала белыми руками за обе щеки и целовала так ласково!
Потом был немец, который точил на станке табакерки и пуговицы, потом учитель музыки, который напивался от воскресенья до воскресенья, потом целая шайка горничных, наконец стая собак и собачонок.
Все это наполняло дом и деревню шумом, гамом, стуком, кликами и музыкой.
С одной стороны, Обломовка, с другой - княжеский замок, с широким раздольем барской жизни, встретились с немецким элементом, и не вышло из
Андрея ни доброго бурша, ни даже филистера.
Отец Андрюши был агроном, технолог, учитель. У отца своего, фермера, он взял практические уроки в агрономии, на саксонских фабриках изучил технологию, а в ближайшем университете, где было около сорока профессоров, получил призвание к преподаванию того, что кое-как успели ему растолковать сорок мудрецов.
С тех пор Иван Богданович не видал ни родины, ни отца. Шесть лет пространствовал он по Швейцарии, Австрии, а двадцать лет живет в России и благословляет свою судьбу.
Он был в университете и решил, что сын его должен быть также там -
нужды нет, что это будет не немецкий университет, нужды нет, что университет русский должен будет произвести переворот в жизни его сына и далеко отвести от той колеи, которую мысленно проложил отец в жизни сына.
А он сделал это очень просто: взял колею от своего деда и продолжил ее, как по линейке, до будущего своего внука и был покоен, не подозревая, что варьяции Герца, мечты и рассказы матери, галерея и будуар в княжеском замке обратят узенькую немецкую колею в такую широкую дорогу, какая не снилась ни деду его, ни отцу, ни ему самому.
Впрочем, он не был педант в этом случае и не стал бы настаивать на своем; он только не умел бы начертать в своем уме другой дороги сыну.
Он мало об этом заботился. Когда сын его воротился из университета и прожил месяца три дома, отец сказал, что делать ему в Верхлеве больше нечего, что вон уж даже Обломова отправили в Петербург, что, следовательно, и ему пора.
А отчего нужно ему в Петербург, почему не мог он остаться в Верхлеве и помогать управлять имением, - об этом старик не спрашивал себя; он только помнил, что когда он сам кончил курс ученья, то отец отослал его от себя.
И он отсылал сына - таков обычай в Германии. Матери не было на свете, и противоречить было некому.
В день отъезда Иван Богданович дал сыну сто рублей ассигнациями.
Ты поедешь верхом до губернского города, - сказал он. - Там получи от
Калинникова триста пятьдесят рублей, а лошадь оставь у него. Если ж его нет, продай лошадь; там скоро ярмарка: дадут четыреста рублей и не на охотника.
До Москвы доехать тебе станет рублей сорок, оттуда в Петербург - семьдесят пять; останется довольно. Потом - как хочешь. Ты делал со мной дела, стало быть знаешь, что у меня есть некоторый капитал; но ты прежде смерти моей на него не рассчитывай, а я, вероятно, еще проживу лет двадцать, разве только камень упадет на голову. Лампада горит ярко, и масла в ней много. Образован ты хорошо: перед тобой все карьеры открыты; можешь служить, торговать, хоть сочинять, пожалуй, - не знаю, что ты изберешь, к чему чувствуешь больше охоты...
Да я посмотрю, нельзя ли вдруг по всем, - сказал Андрей.
Отец захохотал изо всей мочи и начал трепать сына по плечу так, что и лошадь бы не выдержала. Андрей ничего.
Ну, а если не станет уменья, не сумеешь сам отыскать вдруг свою дорогу, понадобится посоветоваться, спросить - зайди к Рейнгольду: он научит. О! - прибавил он, подняв пальцы вверх и тряся головой. Это... это
(он хотел похвалить и не нашел слова)... Мы вместе из Саксонии пришли. У
него четырехэтажный дом. Я тебе адрес скажу...
Не надо, не говори, - возразил Андрей, - я пойду к нему, когда у меня будет четырехэтажный дом, а теперь обойдусь без него...
Опять трепанье по плечу.
Андрей вспрыгнул на лошадь. У седла были привязаны две сумки: в одной лежал клеенчатый плащ и видны были толстые, подбитые гвоздями сапоги да несколько рубашек из верхлевского полотна - вещи, купленные и взятые по настоянию отца; в другой лежал изящный фрак тонкого сукна, мохнатое пальто, дюжина тонких рубашек и ботинки, заказанные в Москве, в память наставлений матери.
Ну! - сказал отец.
Ну! - сказал сын.
Все? - спросил отец.
Все! - отвечал сын.
Они посмотрели друг на друга молча, как будто пронзали взглядом один другого насквозь.
Между тем около собралась кучка любопытных соседей посмотреть, с разинутыми ртами, как управляющий отпустит сына на чужую сторону.
Отец и сын пожали друг другу руки. Андрей поехал крупным шагом.
Каков щенок: ни слезинки! - говорили соседи. - Вон две вороны так и надседаются, каркают на заборе: накаркают они ему - погоди ужо!..
Да что ему вороны? Он на Ивана Купала по ночам в лесу один шатается:
к ним, братцы, это не пристает. Русскому бы не сошло с рук!..
А старый-то нехристь хорош! - заметила одна мать. - Точно котенка выбросил на улицу: не обнял, не взвыл!
Стой! Стой, Андрей! - закричал старик.
Андрей остановил лошадь.
А! Заговорило, видно, ретивое! - сказали в толпе с одобрением.
Ну? - спросил Андрей.
Подпруга слаба, надо подтянуть.
Доеду до Шамшевки, сам поправлю. Время тратить нечего, надо засветло приехать.
Ну! - сказал, махнув рукой, отец.
Ну! - кивнув головой, повторил сын и, нагнувшись немного, только хотел пришпорить коня.
Ах вы, собаки, право собаки! Словно чужие! - говорили соседи.
Но вдруг в толпе раздался громкий плач: какая-то женщина не выдержала.
Батюшка ты, светик! - приговаривала она, утирая концом головного платка глаза. - Сиротка бедный! Нет у тебя родимой матушки, некому благословить-то тебя... Дай хоть я перекрещу тебя, красавец мой!..
Андрей подъехал к ней, соскочил с лошади, обнял старуху, потом хотел было ехать - и вдруг заплакал, пока она крестила и целовала его. В ее горячих словах послышался ему будто голос матери, возник на минуту ее нежный образ.
Он еще крепко обнял женщину, наскоро отер слезы и вскочил на лошадь. Он ударил ее по бокам и исчез в облаке пыли; за ним с двух сторон отчаянно бросились вдогонку три дворняжки и залились лаем.
Штольц ровесник Обломову: и ему уже за тридцать лет. Он служил, вышел в отставку, занялся своими делами и в самом деле нажил дом и деньги. Он участвует в какой-то компании, отправляющей товары за границу.
Он беспрестанно в движении: понадобится обществу послать в Бельгию или
Англию агента - посылают его; нужно написать какой-нибудь проект или приспособить новую идею к делу - выбирают его. Между тем он ездит и в свет и читает: когда он успевает - бог весть.
Он весь составлен из костей, мускулов и нервов, как кровная английская лошадь. Он худощав; щек у него почти вовсе нет, то есть есть кость да мускул, но ни признака жирной округлости; цвет лица ровный, смугловатый и никакого румянца; глаза хотя немного зеленоватые, но выразительные.
Движений лишних у него не было. Если он сидел, то сидел покойно, если же действовал, то употреблял столько мимики, сколько было нужно.
Как в организме нет у него ничего лишнего, так и в нравственных отправлениях своей жизни он искал равновесия практических сторон с тонкими потребностями духа. Две стороны шли параллельно, перекрещиваясь и перевиваясь на пути, но никогда не запутываясь в тяжелые, неразрешаемые узлы.
Он шел твердо, бодро; жил по бюджету, стараясь тратить каждый день, как каждый рубль, с ежеминутным, никогда не дремлющим контролем издержанного времени, труда, сил души и сердца.
Кажется, и печалями и радостями он управлял, как движением рук, как шагами ног или как обращался с дурной и хорошей погодой.
Он распускал зонтик, пока шел дождь, то есть страдал, пока длилась скорбь, да и страдал без робкой покорности, а больше с досадой, с гордостью, и переносил терпеливо только потому, что причину всякого страдания приписывал самому себе, а не вешал, как кафтан, на чужой гвоздь.
И радостью наслаждался, как сорванным по дороге цветком, пока он не увял в руках, не допивая чаши никогда до той капельки горечи, которая лежит в конце всякого наслаждения.
Простой, то есть прямой, настоящий взгляд на жизнь - вот что было его постоянною задачею, и, добираясь постепенно до ее решения, он понимал всю трудность ее и был внутренне горд и счастлив всякий раз, когда ему случалось заметить кривизну на своем пути и сделать прямой шаг.
"Мудрено и трудно жить просто!" - говорил он часто себе и торопливыми взглядами смотрел, где криво, где косо, где нить шнурка жизни начинает завертываться в неправильный, сложный узел.
Больше всего он боялся воображения, этого двуличного спутника, с дружеским на одной и вражеским на другой стороне лицом, друга - чем меньше веришь ему, и врага - когда уснешь доверчиво под его сладкий шепот.
Он боялся всякой мечты, или если входил в ее область, то входил, как входят в грот с надписью: ma solitude, mon hermitage, mon repos, зная час и минуту, когда выйдешь оттуда.
Мечте, загадочному, таинственному не было места в его душе. То, что не подвергалось анализу опыта, практической истины, было в глазах его оптический обман, то или другое отражение лучей и красок на сетке органа зрения или же, наконец, факт, до которого еще не дошла очередь опыта.
У него не было и того дилетантизма, который любит порыскать в области чудесного или подонкихотствовать в поле догадок и открытий за тысячу лет вперед. Он упрямо останавливался у порога тайны, не обнаруживая ни веры ребенка, ни сомнения фата, а ожидал появления закона, а с ним и ключа к ней.
Так же тонко и осторожно, как за воображением, следил он за сердцем.
Здесь, часто оступаясь, он должен был сознаваться, что сфера сердечных отравлений была еще terra incognita.
Он горячо благодарил судьбу, если в этой неведомой области удавалось ему заблаговременно различить нарумяненную ложь от бледной истины; уже не сетовал, когда от искусно прикрытого цветами обмана он оступался, а не падал, если только лихорадочно и усиленно билось сердце, и рад-радехонек был, если не обливалось оно кровью, если не выступал холодный пот на лбу и потом не ложилась надолго длинная тень на его жизнь.
Он считал себя счастливым уже и тем, что мог держаться на одной высоте и, скача на коньке чувства, не проскакать тонкой черты, отделяющей мир чувства от мира лжи и сентиментальности, мир истины от мира, смешного, или, скача обратно, не заскакать на песчаную, сухую почву жесткости, умничанья, недоверия, мелочи, оскопления сердца.
Он и среди увлечения чувствовал землю под ногой и довольно силы в себе, чтоб в случае крайности рвануться и быть свободным. Он не ослеплялся красотой и потому не забывал, не унижал достоинства мужчины, не был рабом,
"не лежал у ног" красавиц, хотя не испытывал огненных радостей.
У него не было идолов, зато он сохранил силу души, крепость тела, зато он был целомудренно-горд; от него веяло какою-то свежестью и силой, перед которой невольно смущались и незастенчивые женщины.
Он знал цену этим редким и дорогим свойствам и так скупо тратил их, что его звали эгоистом, бесчувственным. Удержанность его от порывов, уменье не выйти из границ естественного, свободного состояния духа клеймили укором и тут же оправдывали, иногда с завистью и удивлением, другого, который со всего размаха летел в болото и разбивал свое и чужое существование.
Страсти, страсти все оправдывают, - говорили вокруг него, - а вы в своем эгоизме бережете только себя: посмотрим, для кого.
Для кого-нибудь да берегу, - говорил он задумчиво, как будто глядя вдаль, и продолжал не верить в поэзию страстей, не восхищался их бурными проявлениями и разрушительными следами, а все хотел видеть идеал бытия и стремлений человека в строгом понимании и отправлении жизни.
И чем больше оспаривали его, тем глубже "коснел" он в своем упрямстве, впадал даже, по крайней мере в спорах, в пуританский фанатизм. Он говорил, что "нормальное назначение человека - прожить четыре времени года, то есть четыре возраста, без скачков и донести сосуд жизни до последнего дня, не пролив ни одной капли напрасно, и что ровное и медленное горение огня лучше бурных пожаров, какая бы поэзия ни пылала в них". В заключение прибавлял, что он "был бы счастлив, если б удалось ему на себе оправдать свое убеждение, но что достичь этого он не надеется, потому что это очень трудно".
А сам все шел да шел упрямо по избранной дороге. Не видали, чтоб он задумывался над чем-нибудь болезненно и мучительно; по-видимому, его не пожирали угрызения утомленного сердца; не болел он душой, не терялся никогда в сложных, трудных или новых обстоятельствах, а подходил к ним, как к бывшим знакомым, как будто он жил вторично, проходил знакомые места.
Что ни встречалось, он сейчас употреблял тот прием, какой был нужен для этого явления, как ключница сразу выберет из кучи висящих на поясе ключей тот именно, который нужен для той или другой двери.
Выше всего он ставил настойчивость в достижении целей: это было признаком характера в его глазах, и людям с этой настойчивостью он никогда не отказывал в уважении, как бы ни были неважны их цели.
Это люди! - говорил он.
Нужно ли прибавлять, что сам он шел к своей цели, отважно шагая через все преграды, и разве только тогда отказывался от задачи, когда на пути его возникала стена или отверзалась непроходимая бездна.
Но он не способен был вооружиться той отвагой, которая, закрыв глаза, скакнет через бездну или бросится на стену на авось. Он измерит бездну или стену, и если нет верного средства одолеть, он отойдет, что бы там про него ни говорили.
Чтоб сложиться такому характеру, может быть нужны были и такие смешанные элементы, из каких сложился Штольц. Деятели издавна отливались у нас в пять, шесть стереотипных форм, лениво, вполглаза глядя вокруг, прикладывали руку к общественной машине и с дремотой двигали ее по обычной колее, ставя ногу в оставленный предшественником след. Но вот глаза очнулись от дремоты, послышались бойкие широкие шаги, живые голоса... Сколько
Штольцев должно явиться под русскими именами!
Как такой человек мог быть близок Обломову, в котором каждая черта, каждый шаг, все существование было вопиющим протестом против жизни Штольца?
Это, кажется, уже решенный вопрос, что противоположные крайности если не служат поводом к симпатии, как думали прежде, то никак не препятствуют ей.
Притом их связывало детство и школа - две сильные пружины, потом русские, добрые, жирные ласки, обильно расточаемые в семействе Обломова на немецкого мальчика, потом роль сильного, которую Штольц занимал при Обломове и в физическом и в нравственном отношении, а наконец, и более всего, в основании натуры Обломова лежало чистое, светлое и доброе начало, исполненное глубокой симпатии ко всему, что хорошо и что только отверзалось и откликалось на зов этого простого, нехитрого, вечно доверчивого сердца.
Кто только случайно и умышленно заглядывал в эту светлую, детскую душу
Будь он мрачен, зол, - он уже не мог отказать ему во взаимности или, если обстоятельства мешали сближению, то хоть в доброй и прочной памяти.
Андрей часто, отрываясь от дел или из светской толпы, с вечера, с бала ехал посидеть на широком диване Обломова и в ленивой беседе отвести и успокоить встревоженную или усталую душу и всегда испытывал то успокоительное чувство, какое испытывает человек, приходя из великолепных зал под собственный скромный кров или возвратясь от красот южной природы в березовую рощу, где гулял еще ребенком.
Здравствуй, Илья. Как я рад тебя видеть! Ну, что, как ты поживаешь?
Здоров ли? - спросил Штольц.
Ох, нет, плохо, брат Андрей, - вздохнув, сказал Обломов, - какое здоровье!
А что, болен? - спросил заботливо Штольц.
Ячмени одолели: только на той неделе один сошел с правого глаза, а теперь вот садится другой.
Штольц засмеялся.
Только? - спросил он. - Это ты наспал себе.
Какое "только": изжога мучит. Ты послушал бы, что давеча доктор сказал.
"За границу, говорит, ступайте, а то плохо: удар может быть".
Ну, что ж ты?
Не поеду.
Отчего же?
Помилуй! Ты послушай, что он тут наговорил: "живи я где-то на горе, поезжай в Египет или в Америку..."
Что ж? - хладнокровно сказал Штольц. - В Египте ты будешь через две недели, в Америке через три.
Ну, брат Андрей, и ты то же! Один толковый человек и был, и тот с ума спятил. Кто же ездит в Америку и Египет! Англичане: так уж те так господом богом устроены; да и негде им жить-то у себя. А у нас кто поедет? Разве отчаянный какой-нибудь, кому жизнь нипочем.
В самом деле, какие подвиги: садись в коляску или на корабль, дыши чистым воздухом, смотри на чужие страны, города, обычаи, на все чудеса...
Ну, скажи, что твои дела, что в Обломовке?
Ах!.. - произнес Обломов, махнув рукою.
Что случилось?
Да что: жизнь трогает!
И слава богу! - сказал Штольц.
Как слава богу! Если б она все по голове гладила, а то пристает, как бывало в школе к смирному ученику пристают забияки: то ущипнет исподтишка, то вдруг нагрянет прямо со лба и обсыплет песком... мочи нет!
Ты уж слишком - смирен. Что же случилось? - спросил Штольц.
Два несчастья.
Какие же?
Совсем разорился.
Как так?
Вот я тебе прочту, что староста пишет... где письмо-то? Захар, Захар!
Захар отыскал письмо. Штольц пробежал его и засмеялся, вероятно от слога старосты.
Какой плут этот староста! - сказал он. - Распустил мужиков, да и жалуется! Лучше бы дать им паспорты, да и пустить на все четыре стороны.
Помилуй, этак, пожалуй, и все захотят, - возразил Обломов.
Да пусть их! - беспечно сказал Штольц. - Кому хорошо и выгодно на месте, тот не уйдет; а если ему невыгодно, то и тебе невыгодно: зачем же его держать?
Вон что выдумал! - говорил Илья Ильич. - В Обломовке мужики смирные, домоседы; что им шататься?..
А ты не знаешь, - перебил Штольц, - в Верхлеве пристань хотят устроить и предположено шоссе провести, так что и Обломовка будет недалеко от большой дороги, а в городе ярмарку учреждают...
Ах, боже мой! - сказал Обломов. - Этого еще недоставало! Обломовка была в таком затишье, в стороне, а теперь ярмарка, большая дорога! Мужики повадятся в город, к нам будут таскаться купцы - все пропало! Беда!
Штольц засмеялся.
Как же не беда? - продолжал. Обломов. - Мужики были так себе, ничего не слышно, ни хорошего, ни дурного, делают свое дело, ни за чем не тянутся;
а теперь развратятся! Пойдут чаи, кофеи, бархатные штаны, гармоники, смазные сапоги... не будет проку!
Да, если это так, конечно мало проку, - заметил Штольц... - А ты заведи-ка школу в деревне...
Не рано ли? - сказал Обломов. - Грамотность вредна мужику: выучи его, так он, пожалуй, и пахать не станет...
не шутя, тебе надо самому побывать в деревне в этом году.
Да, правда; только у меня план еще не весь... робко заметил Обломов.
И не нужно никакого! - сказал Штольц. - Ты только поезжай: на месте увидишь, что надо делать. Ты давно что-то с этим планом возишься: ужель еще все не готово? Что ж ты делаешь?
Ах, братец! Как будто у меня только и дела, что по имению. А другое несчастье?
Какое же?
С квартиры гонят.
Как гонят?
Так: съезжай, говорят, да и только.
Ну, так что ж?
Как - что ж? Я тут спину и бока протер, ворочаясь от этих хлопот.
Ведь один: и то надо и другое, там счеты сводить, туда плати, здесь плати, а тут перевозка! Денег выходит ужас сколько, и сам не знаю куда! Того и гляди, останешься без гроша...
Вот избаловался-то человек: с квартиры тяжело съехать! - с удивлением произнес Штольц. - Кстати о деньгах: много их у тебя? Дай мне рублей пятьсот: надо сейчас послать; завтра из нашей конторы возьму...
Постой! Дай вспомнить... Недавно из деревни прислали тысячу, а теперь осталось... вот, погоди...
Обломов начал шарить по ящикам.
Вот тут... десять, двадцать, вот двести рублей... да вот двадцать.
Еще тут медные были... Захар, Захар! Захар прежним порядком спрыгнул с лежанки и вошел в комнату.
Где тут две гривны были на столе? вчера я положил...
Что это, Илья Ильич, дались вам две гривны! Я уж вам докладывал, что никаких тут двух гривен не лежало...
Как не лежало! С апельсинов сдачи дали...
Отдали кому-нибудь, да и забыли, - сказал Захар, поворачиваясь к двери.
Штольц засмеялся.
Ах вы, обломовцы! - упрекнул он. - Не знают, сколько у них денег в кармане!
А давеча Михею Андреичу какие деньги отдавали? - напомнил Захар.
Ах, да, вот Тарантьев взял еще десять рублей, - живо обратился
Обломов к Штольцу, - я и забыл.
Зачем ты пускаешь к себе это животное? - заметил Штольц.
Чего пускать! - вмешался Захар. - Придет словно в свой дом или в трактир.
Рубашку и жилет барские взял, да и поминай как звали! Давеча за фраком пожаловал: "дай надеть!" Хоть бы вы, батюшка, Андрей Иваныч, уняли его...
Не твое дело, Захар. Подь к себе! - строго заметил Обломов.
Дай мне лист почтовой бумаги, - спросил Штольц, - записку написать.
Захар, дай бумаги: вон Андрею Иванычу нужно... - сказал Обломов.
Ведь нет ее! Давеча искали, - отозвался из передней Захар и даже не пришел в комнату.
Клочок какой-нибудь дай! - приставал Штольц.
Обломов поискал на столе: и клочка не было.
Ну, дай хоть визитную карточку.
Давно их нет у меня, визитных-то карточек, - сказал Обломов.
Что это с тобой? - с иронией возразил Штольц. - А собираешься дело делать, план пишешь. Скажи, пожалуйста, ходишь ли ты куда-нибудь, где бываешь? С кем видишься?
Да где бываю! Мало где бываю, все дома сижу: вот план-то тревожит меня, а тут еще квартира... Спасибо, Тарантьев хотел постараться, приискать...
Бывает ли кто-нибудь у тебя?
Бывает... вот Тарантьев, еще Алексеев. Давеча доктор зашел... Пенкин был, Судьбинский, Волков.
Я у тебя и книг не вижу, - сказал Штольц.
Вот книга! - заметил Обломов, указав на лежавшую на столе книгу.
Что такое? - спросил Штольц, посмотрев книгу. - "Путешествие в
Африку". И страница, на которой ты остановился, заплесневела. Ни газеты не видать...
Читаешь ли ты газеты?
Нет, печать мелка, портит глаза... и нет надобности: если есть что-нибудь новое, целый день со всех сторон только и слышишь об этом.
Помилуй, Илья! - сказал Штольц, обратив на Обломова изумленный взгляд. - Сам-то ты что ж делаешь? Точно ком теста, свернулся и лежишь.
Правда, Андрей, как ком, - печально отозвался Обломов.
Да разве сознание есть оправдание?
Нет, это только ответ на твои слова; я не оправдываюсь, - со вздохом заметил Обломов.
Надо же выйти из этого сна.
Пробовал прежде, не удалось, а теперь... зачем? Ничто не вызывает, душа не рвется, ум спит спокойно! - с едва заметною горечью заключил он. -
Полно об этом... Скажи лучше, откуда ты теперь?
Из Киева. Недели через две поеду за границу. Поезжай и ты...
Хорошо; пожалуй... - решил Обломов.
Так садись, пиши просьбу, завтра и подашь...
Вот уж и завтра! - начал Обломов спохватившись. - Какая у них торопливость, точно гонит кто-нибудь! Подумаем, поговорим, а там что бог даст! Вот разве сначала в деревню, а за границу... после...
Отчего же после? Ведь доктор велел? Ты сбрось с себя прежде жир, тяжесть тела, тогда отлетит и сон души. Нужна и телесная и душевная гимнастика.
Нет, Андрей, все это меня утомит: здоровье-то плохо у меня. Нет, уж ты лучше оставь меня, поезжай себе один...
Штольц поглядел на лежащего Обломова, Обломов поглядел на него.
Штольц покачал головой, а Обломов вздохнул.
Тебе, кажется, и жить-то лень? - спросил Штольц.
А что, ведь и то правда: лень, Андрей.
Андрей ворочал в голове вопрос, чем бы задеть его за живое и где у него живое, между тем молча разглядывал его и вдруг засмеялся.
Что это на тебе один чулок нитяный, а другой бумажный? - вдруг заметил он, показывая на ноги Обломова. - Да и рубашка наизнанку надета?
Обломов поглядел на ноги, потом на рубашку.
В самом деле, - смутясь, сознался он. - Этот Захар в наказанье мне послан! Ты не поверишь, как я измучился с ним! Спорит, грубиянит, а дела не спрашивай!
Ах, Илья, Илья! - сказал Штольц. - Нет, я тебя не оставлю так. Через неделю ты не узнаешь себя. Уже вечером я сообщу тебе подробный план о том, что я намерен делать с собой и с тобой, а теперь одевайся. Постой, я встряхну тебя. Захар! - закричал он. - Одеваться Илье Ильичу!
Куда, помилуй, что ты? Сейчас придет Тарантьев с Алексеевым обедать.
Потом хотели было...
Захар, - говорил, не слушая его, Штольц, - давай ему одеваться.
Слушаю, батюшка, Андрей Иваныч, вот только сапоги почищу, - охотливо говорил Захар.
Как? У тебя не чищены сапоги до пяти часов?
Чищены-то они чищены, еще на той неделе, да барин не выходил, так опять потускнели...
Ну, давай как есть. Мой чемодан внеси в гостиную; я у вас остановлюсь. Я сейчас оденусь, и ты будь готов, Илья. Мы пообедаем где-нибудь на ходу, потом поедем дома в два, три, и...
Да ты того... как же это вдруг... постой... дай подумать... ведь я не брит...
Нечего думать да затылок чесать... Дорогой обреешься: я тебя завезу.
В какие дома мы еще поедем? - горестно воскликнул Обломов. - К
незнакомым? Что выдумал! Я пойду, лучше к Ивану Герасимовичу; дня три не был,
Кто это Иван Герасимыч?
Что служил прежде со мной...
А! Этот седой экзекутор: что ты там нашел? Что за страсть убивать время с этим болваном!
Как ты иногда резко отзываешься о людях, Андрей, так бог тебя знает.
А ведь это хороший человек: только что не в голландских рубашках ходит....
Что ты у него делаешь? О чем с ним говоришь? - спросил Штольц.
У него, знаешь, как-то правильно, уютно в доме. Комнаты маленькие, диваны такие глубокие: уйдешь с головой, и не видать человека. Окна совсем закрыты плющами да кактусами, канареек больше дюжины, три собаки, такие добрые!
Закуска со стола не сходит. Гравюры все изображают семейные сцены.
Придешь, и уйти не хочется. Сидишь, не заботясь, не думая ни о чем, знаешь, что около тебя есть человек... конечно, немудрый, поменяться с ним идеей нечего и думать, зато не хитрый, добрый, радушный, без претензий и не уязвит тебя за глаза!
Что ж вы делаете?
Что? Вот я приду, сядем друг против друга на диваны, с ногами; он курит...
Ну, а ты?
Я тоже курю, слушаю, как канарейки трещат. Потом Марфа принесет самовар.
Тарантьев, Иван Герасимыч! - говорил Штольц, пожимая плечами. - Ну, одевайся скорей, - торопил он. - А Тарантьеву скажи, как придет, - прибавил он, обращаясь к Захару, - что мы дома не обедаем и что Илья Ильич все лето не будет дома обедать, а осенью у него много будет дела, и что видеться с ним не удастся...
Скажу, не забуду, все скажу, - отозвался Захар, - а с обедом как прикажете?
Съешь его с кем-нибудь на здоровье.
Слушаю, сударь.
Минут через десять Штольц вышел одетый, обритый, причесанный, а Обломов меланхолически сидел на постели, медленно застегивая грудь рубашки и не попадая пуговкой в петлю. Перед ним на одном колене стоял Захар с нечищенным сапогом, как с каким-нибудь блюдом, готовясь надевать и ожидая, когда барин кончит застегивание груди.
Ты еще сапог не надел! - с изумлением сказал Штольц. - Ну, Илья, скорей же, скорей!
Да куда это? Да зачем? - с тоской говорил Обломов. - Чего я там не видал?
Отстал я, не хочется...
Скорей, скорей! - торопил Штольц.
Хотя было уже не рано, но они успели заехать куда-то по делам, потом
Штольц захватил с собой обедать одного золотопромышленника, потом поехали к этому последнему на дачу пить чай, застали большое общество, и Обломов из совершенного уединения вдруг очутился в толпе людей. Воротились они домой к поздней ночи.
На другой, на третий день опять, и целая неделя промелькнула незаметно.
Обломов протестовал, жаловался, спорил, но был увлекаем и сопутствовал другу своему всюду.
Однажды, возвратясь откуда-то поздно, он особенно восстал против этой суеты.
Целые дни, - ворчал Обломов, надевая халат, - не снимаешь сапог: ноги так и зудят! Не нравится мне эта ваша петербургская жизнь! - продолжал он, ложась на диван.
Какая же тебе нравится? - спросил Штольц.
Не такая, как здесь.
Что ж здесь именно так не понравилось?
Все, вечная беготня взапуски, вечная игра дрянных страстишек, особенно жадности, перебиванья друг у друга дороги, сплетни, пересуды, щелчки друг другу, это оглядывание с ног до головы; послушаешь, о чем говорят, так голова закружится, одуреешь. Кажется, люди на взгляд такие умные, с таким достоинством на лице, только и слышишь: "Этому дали то, тот получил аренду". - "Помилуйте, за что?" - кричит кто-нибудь. "Этот проигрался вчера в клубе; тот берет триста тысяч!" Скука, скука, скука!..
Где же тут человек? Где его целость? Куда он скрылся, как разменялся на всякую мелочь?
Что-нибудь да должно же занимать свет и общество, - сказал Штольц, -
у всякого свои интересы. На то жизнь...
Свет, общество! Ты, верно, нарочно, Андрей, посылаешь меня в этот свет и общество, чтоб отбить больше охоту быть там. Жизнь: хороша жизнь!
Чего там искать? интересов ума, сердца? Ты посмотри, где центр, около которого вращается все это: нет его, нет ничего глубокого, задевающего за живое. Все это мертвецы, спящие люди, хуже меня, эти члены света и общества!
Что водит их в жизни? Вот они не лежат, а снуют каждый день, как мухи, взад и вперед, а что толку? Войдешь в залу и не налюбуешься, как симметрически рассажены гости, как смирно и глубокомысленно сидят - за картами. Нечего сказать, славная задача жизни! Отличный пример для ищущего движения ума!
Разве это не мертвецы? Разве не спят они всю жизнь сидя? Чем я виноватее их, лежа у себя дома и не заражая головы тройками и валетами?
Это все старое, об этом тысячу раз говорили, - заметил Штольц. - Нет ли чего поновее?
А наша лучшая молодежь, что она делает? Разве не спит, ходя, разъезжая по Невскому, танцуя? Ежедневная пустая перетасовка дней! А
посмотри, с какою гордостью и неведомым достоинством, отталкивающим взглядом смотрят, кто не так одет, как они, не носят их имени и звания. И воображают несчастные, что еще они выше толпы: "Мы-де служим, где, кроме нас, никто не служит; мы в первом ряду кресел, мы на бале у князя N, куда только нас пускают"... А сойдутся между собой, перепьются и подерутся, точно дикие!
Разве это живые, не спящие люди? Да не одна молодежь: посмотри на взрослых.
Собираются, кормят друг друга, ни радушия.. ни доброты, ни взаимного влечения!
Собираются на обед, на вечер, как в должность, без веселья, холодно, чтоб похвастать поваром, салоном, и потом под рукой осмеять, подставить ногу один другому. Третьего дня, за обедом, я не знал, куда смотреть, хоть под стол залезть, когда началось терзание репутаций отсутствующих: "Тот глуп, этот низок, другой вор, третий смешон" - настоящая травля! Говоря это, глядят друг на друга такими же глазами: "вот уйди только за дверь, и тебе то же будет"... Зачем же они сходятся, если они таковы? Зачем так крепко жмут друг другу руки? Ни искреннего смеха, ни проблеска симпатии! Стараются залучить громкий чин, имя. "У меня был такой-то, а я был у такого-то", -
хвастают потом... Что ж это за жизнь? Я не хочу ее. Чему я там научусь, что извлеку?
Знаешь что, Илья? - сказал Штольц. - Ты рассуждаешь, точно древний: в старых книгах вот так все писали. А впрочем, и то хорошо: по крайней мере, рассуждаешь, не спишь. Ну, что еще? Продолжай.
Что продолжать-то? Ты посмотри: ни на ком здесь нет свежего, здорового лица...
Климат такой, - перебил Штольц. - Вон и у тебя лицо измято, а ты и не бегаешь, все лежишь.
Ни у кого ясного, покойного взгляда, - продолжал Обломов, - все заражаются друг от друга какой-нибудь мучительной заботой, тоской, болезненно чего-то ищут. И добро бы истины, блага себе и другим - нет, они бледнеют от успеха товарища. У одного забота: завтра в присутственное место зайти, дело пятый год тянется, противная сторона одолевает, и он пять лет носит одну мысль в голове, одно желание: сбить с ног другого и на его падении выстроить здание своего благосостояния. Пять лет ходить, сидеть и вздыхать в приемной - вот идеал и цель жизни! Другой мучится, что осужден ходить каждый день на службу и сидеть до пяти часов, а тот вздыхает тяжко, что нет ему такой благодати...
Ты философ, Илья! - сказал Штольц. - Все хлопочут, только тебе ничего не нужно!
Вот этот желтый господин в очках, - продолжал Обломов, - пристал ко мне: читал ли я речь какого-то депутата, и глаза вытаращил на меня, когда я сказал, что не читаю газет. И пошел о Людовике-Филиппе, точно как будто он родной отец ему. Потом привязался, как я думаю: отчего французский посланник выехал из Рима? Как, всю жизнь обречь себя на ежедневное заряжанье всесветными новостями, кричать неделю, пока не выкричишься?
Сегодня Мехмет-Али послал корабль в Константинополь, и он ломает себе голову: зачем? Завтра не удалось Дон-Карлосу - и он в ужасной тревоге. Там роют канал, тут отряд войска послали на Восток; батюшки, загорелось! лица нет, бежит, кричит, как будто на него самого войско идет. Рассуждают, соображают вкривь и вкось, а самим скучно - не занимает это их; сквозь эти крики виден непробудный сон! Это им постороннее; они не в своей шапке ходят.
Дела-то своего нет, они и разбросались на все стороны, не направились ни на что. Под этой всеобъемлемостью кроется пустота, отсутствие симпатии ко всему! А избрать скромную, трудовую тропинку и идти по ней, прорывать глубокую колею - это скучно, незаметно; там всезнание не поможет и пыль в глаза пустить некому.
Ну, мы с тобой не разбросались, Илья. Где же наша скромная, трудовая тропинка? - спросил Штольц.
Обломов вдруг смолк.
Да вот я кончу только... план... - сказал он. - Да бог с ними! - с досадой прибавил потом. - Я их не трогаю, ничего не ищу; я только не вижу нормальной жизни в этом. Нет, это не жизнь, а искажение нормы, идеала жизни, который указала природа целью человеку...
Какой же это идеал, норма жизни?
Обломов не отвечал.
Ну, скажи мне, какую бы ты начертал себе жизнь? - продолжал спрашивать Штольц.
Я уж начертал.
Что ж это такое? Расскажи, пожалуйста, как?
Как? - сказал Обломов, перевертываясь на спину и глядя в потолок. -
Да как! Уехал бы в деревню.
Что ж тебе мешает?
План не кончен. Потом я бы уехал не один, а с женой.
А! вот что! Ну, с богом. Чего ж ты ждешь? Еще года три - четыре, никто за тебя не пойдет...
Что делать, не судьба! - сказал Обломов, вздохнув. - Состояние не позволяет!
Помилуй, а Обломовка? Триста душ!
Так что ж? Чем тут жить, с женой?
Вдвоем, чем жить!
А дети пойдут?
Детей воспитаешь, сами достанут; умей направить их так...
Нет, что из дворян делать мастеровых! - сухо перебил Обломов. - Да и кроме детей, где же вдвоем? Это только так говорится - с женой вдвоем, а в самом-то деле только женился, тут наползет к тебе каких-то баб в дом.
Загляну в любое семейство: родственницы не родственницы и не экономки;
если не живут, так ходят каждый день кофе пить, обедать... Как же прокормить с тремя стами душ такой пансион?
Ну хорошо; пусть тебе подарили бы еще триста тысяч, что б ты сделал?
Спрашивал Штольц с сильно задетым любопытством.
Сейчас же в ломбард, - сказал Обломов, - и жил бы процентами.
Там мало процентов; отчего ж бы куда-нибудь в компанию, вот хоть в нашу?
Нет, Андрей, меня не надуешь.
Как: ты бы и мне не поверил?
Ни за что; не то что тебе, а все может случиться: ну, как лопнет, вот я и без гроша. То ли дело в банк?
Ну хорошо; что ж бы ты стал делать?
Ну, приехал бы я в новый, покойно устроенный дом... В окрестности жили бы добрые соседи, ты, например... Да нет, ты не усидишь на одном месте...
А ты разве усидел бы всегда? Никуда бы не поехал?
Ни за что!
Зачем же хлопочут строить везде железные дороги, пароходы, если идеал жизни - сидеть на месте? Подадим-ко, Илья, проект, чтоб остановились; мы ведь не поедем.
И без нас много; мало ли управляющих, приказчиков, купцов, чиновников, праздных путешественников, у которых нет угла? Пусть ездят себе!
А ты кто же?
Обломов молчал.
К какому же разряду общества причисляешь ты себя?
Спроси Захара, - сказал Обломов.
Штольц буквально исполнил желание Обломова.
Захар! - закричал он.
Пришел Захар, с сонными глазами.
Кто это такой лежит? - спросил Штольц.
Захар вдруг проснулся и стороной, подозрительно взглянул на Штольца, потом на Обломова.
Как кто? Разве вы не видите?
Не вижу, - сказал Штольц.
Что за диковина? Это барин, Илья Ильич.
Он усмехнулся.
Хорошо, ступай.
Барин! - повторил Штольц и закатился хохотом.
Ну, джентльмен, - с досадой поправил Обломов.
Нет, нет, ты барин! - продолжал с хохотом Штольц.
Какая же разница? - сказал Обломов. - Джентльмен - такой же барин.
Джентльмен есть такой барин, - определил Штольц, - который сам надевает чулки и сам же снимает с себя сапоги.
Да, англичанин сам, потому что у них не очень много слуг, а русский...
Продолжай же дорисовывать мне идеал твоей жизни... Ну, добрые приятели вокруг; что ж дальше? Как бы ты проводил дни свои?
Ну вот, встал бы утром, - начал Обломов, подкладывая руки под затылок, и по лицу разлилось выражение покоя: он мысленно был уже в деревне.
Погода прекрасная, небо синее-пресинее, ни одного облачка, - говорил он, -
одна сторона дома в плане обращена у меня балконом на восток, к саду, к полям, другая - к деревне. В ожидании, пока проснется жена, я надел бы шлафрок и походил по саду подышать утренними испарениями; там уж нашел бы я садовника, поливали бы вместе цветы, подстригали кусты, деревья. Я составляю букет для жены. Потом иду в ванну или в реку купаться, возвращаюсь - балкон уж отворен; жена в блузе, в легком чепчике, который чуть-чуть держится, того и гляди слетит с головы... Она ждет меня. "Чай готов", - говорит она. -
Какой поцелуй! Какой чай! Какое покойное кресло!
Сажусь около стола; на нем сухари, сливки, свежее масло...
Потом, надев просторный сюртук или куртку какую-нибудь, обняв жену за талью, углубиться с ней в бесконечную, темную аллею; идти тихо, задумчиво, молча или думать вслух, мечтать, считать минуты счастья, как биение пульса;
слушать, как сердце бьется и замирает; искать в природе сочувствия... и незаметно выйти к речке, к полю... Река чуть плещет; колосья волнуются от ветерка, жара... сесть в лодку, жена правит, едва поднимает весло...
Да ты поэт, Илья! - перебил Штольц.
Да, поэт в жизни, потому что жизнь есть поэзия. Вольно людям искажать ее!
Потом можно зайти в оранжерею, - продолжал Обломов, сам упиваясь идеалом нарисованного счастья.
Он извлекал из воображения готовые, давно уже нарисованные им картины и оттого говорил с одушевлением, не останавливаясь.
Посмотреть персики, виноград, - говорил он, - сказать, что подать к столу, потом воротиться, слегка позавтракать и ждать гостей... А тут то записка к жене от какой-нибудь Марьи Петровны, с книгой, с нотами, то прислали ананас в подарок или у самого в парнике созрел чудовищный арбуз -
пошлешь доброму приятелю к завтрашнему обеду и сам туда отправишься... А на кухне в это время так и кипит; повар в белом, как снег, фартуке и колпаке суетится; поставит одну кастрюлю, снимет другую, там помешает, тут начнет валять тесто, там выплеснет воду... ножи так и стучат... крошат зелень...
там вертят мороженое... До обеда приятно заглянуть в кухню, открыть кастрюлю, понюхать, посмотреть, как свертывают пирожки, сбивают сливки.
Потом лечь на кушетку; жена вслух читает что-нибудь новое; мы останавливаемся, спорим... Но гости едут, например ты с женой.
Ба, ты и меня женишь?
Непременно! Еще два, три приятеля, все одни и те же лица. Начнем вчерашний, неконченный разговор; пойдут шутки или наступит красноречивое молчание, задумчивость - не от потери места, не от сенатского дела, а от полноты удовлетворенных желаний, раздумье наслаждения... Не услышишь филиппики с пеной на губах отсутствующему, не подметишь брошенного на тебя взгляда с обещанием и тебе того же, чуть выйдешь за дверь. Кого не любишь, кто не хорош, с тем не обмакнешь хлеба в солонку. В глазах собеседников увидишь симпатию, в шутке искренний, незлобный смех... Все по душе! Что в глазах, в словах, то и на сердце! После обеда мокка, гавана на террасе...
Ты мне рисуешь одно и то же, что бывало у дедов и отцов.
Нет, не то, - отозвался Обломов, почти обидевшись, - где же то? Разве у меня жена сидела бы за вареньями да за грибами? Разве считала бы тальки да разбирала деревенское полотно? Разве била бы девок по щекам? Ты слышишь:
ноты, книги, рояль, изящная мебель?
Ну, а ты сам?
И сам я прошлогодних бы газет не читал, в колымаге бы не ездил, ел бы не лапшу и гуся, а выучил бы повара в английском клубе или у посланника.
Ну, потом?
Потом, как свалит жара, отправили бы телегу с самоваром, с десертом в березовую рощу, а не то так в поле, на скошенную траву, разостлали бы между стогами ковры и так блаженствовали бы вплоть до окрошки и бифштекса. Мужики идут с поля, с косами на плечах; там воз с сеном проползет, закрыв всю телегу и лошадь; вверху, из кучи, торчит шапка мужика с цветами да детская головка; там толпа босоногих баб, с серпами, голосят... Вдруг завидели господ, притихли, низко кланяются. Одна из них, с загорелой шеей, с голыми локтями, с робко опущенными, но лукавыми глазами, чуть-чуть, для виду только, обороняется от барской ласки, а сама счастлива... тс!.. жена чтоб не увидела, боже сохрани!
И сам Обломов и Штольц покатились со смеху.
Сыро в поле, - заключил Обломов, - темно; туман, как опрокинутое море, висит над рожью; лошади вздрагивают плечом и бьют копытами: пора домой. В доме уж засветились огни; на кухне стучат в пятеро ножей; сковорода грибов, котлеты, ягоды... тут музыка... Casta diva... Casta diva! - запел
Не могу равнодушно вспомнить Casta diva, - сказал он, пропев начало каватины, - как выплакивает сердце эта женщина! Какая грусть заложена в эти звуки!.. И никто не знает ничего вокруг... Она одна... Тайна тяготит ее; она вверяет ее луне...
Ты любишь эту арию? Я очень рад; ее прекрасно поет Ольга Ильинская. Я
Однакож не отвлекайся, не отвлекайся, - прибавил Штольц, - рассказывай!
Ну, - продолжал Обломов. - что еще?.. Да тут и все!.. Гости расходятся по флигелям, по павильонам; а завтра разбрелись: кто удить, кто с ружьем, а кто так, просто, сидит себе...
Просто, ничего в руках? - спросил Штольц.
Чего тебе надо? Ну, носовой платок, пожалуй. Что ж, тебе не хотелось бы так пожить? - спросил Обломов. - А? Это не жизнь?
И весь век так? - спросил Штольц.
До седых волос, до гробовой доски. Это жизнь!
Нет, это не жизнь!
Как не жизнь? Чего тут нет? Ты подумай, что ты не увидал бы ни одного бледного, страдальческого лица, никакой заботы, ни одного вопроса о сенате, о бирже, об акциях, о докладах, о приеме у министра, о чинах, о прибавке столовых денег. А все разговоры по душе! Тебе никогда не понадобилось бы переезжать с квартиры - уж это одно чего стоит! И это не жизнь?
Это не жизнь! - упрямо повторил Штольц.
Что ж это, по-твоему?
Это... (Штольц задумался и искал, как назвать эту жизнь.) Какая-то...
обломовщина, - сказал он наконец.
О-бло-мовщина! - медленно произнес Илья Ильич, удивляясь этому странному слову и разбирая его по складам. - Об-ло-мов-щина!
Он странно и пристально глядел на Штольца.
Где же идеал жизни, по-твоему? Что ж не обломовщина? - без увлечения, робко спросил он. - Разве не все добиваются того же, о чем я мечтаю?
Помилуй! - прибавил он смелее. - Да цель всей вашей беготни, страстей, войн, торговли и политики разве не выделка покоя, не стремление к этому идеалу утраченного рая?
И утопия-то у тебя обломовская, - возразил Штольц.
Все ищут отдыха и покоя, - защищался Обломов.
Не все, и ты сам, лет десять, не того искал в жизни.
Чего же я искал? - с недоумением спросил Обломов, погружаясь мыслью в прошедшее.
Вспомни, подумай. Где твои книги, переводы?
Захар куда-то дел, - отвечал Обломов, - тут где-нибудь в углу лежат.
В углу! - с упреком сказал Штольц. - В этом же углу лежат и замыслы твои "служить, пока станет сил, потому что России нужны руки и головы для разработывания неистощимых источников (твои слова); работать, чтоб слаще отдыхать, а отдыхать - значит жить другой, артистической, изящной стороной жизни, жизни художников, поэтов". Все эти замыслы тоже Захар сложил в угол?
Помнишь, ты хотел после книг объехать чужие края, чтоб лучше знать и любить свой? "Вся жизнь есть мысль и труд, - твердил ты тогда, - труд хоть безвестный, темный, но непрерывный, и умереть с сознанием, что сделал свое дело". А? В каком углу лежит это у тебя?
Да... да... - говорил Обломов, беспокойно следя за каждым словом
Помню, что я точно... кажется... Как же, - сказал он, вдруг вспомнив прошлое, - ведь мы, Андрей, сбирались сначала изъездить вдоль и поперек
Европу, исходить Швейцарию пешком, обжечь ноги на Везувии, спуститься в
Геркулан. С ума чуть не сошли! Сколько глупостей!..
Глупостей! - с упреком повторил Штольц. - Не ты ли со слезами говорил, глядя на гравюры рафаэлевских мадонн, Корреджиевой ночи, на
Аполлона Бельведерского: "Боже мой! Ужели никогда не удастся взглянуть на оригиналы и онеметь от ужаса, что ты стоишь перед произведением
Микельанджело, Тициана и попираешь почву Рима? Ужели провести век и видеть эти мирты, кипарисы и померанцы в оранжереях, а не на их родине? Не подышать воздухом Италии, не упиться синевой неба!" И сколько великолепных фейерверков пускал ты из головы! Глупости!
Да, да, помню! - говорил Обломов, вдумываясь в прошлое. - Ты еще взял меня за руку и сказал: "Дадим обещание не умирать, не увидавши ничего этого..."
Помню, - продолжал Штольц, - как ты однажды принес мне перевод из
Сея, с посвящением мне в именины; перевод цел у меня. А как ты запирался с учителем математики, хотел непременно добиться, зачем тебе знать круги и квадраты, но на половине бросил и не добился? По-английски начал учиться...
и не доучился! А когда я сделал план поездки за границу, звал заглянуть в германские университеты, ты вскочил, обнял меня и подал торжественно руку:
"Я твой, Андрей, с тобой всюду" - это все твои слова. Ты всегда был немножко актер. Что ж, Илья? Я два раза был за границей, после нашей премудрости, смиренно сидел на студенческих скамьях в Бонне, в Иене, в
Эрлангене, потом выучил Европу как свое имение. Но, положим, вояж - это роскошь, и не все в состоянии и обязаны пользоваться этим средством; а
Россия? Я видел Россию вдоль и поперек. Тружусь...
Когда-нибудь перестанешь же трудиться, - заметил Обломов.
Никогда не перестану. Для чего?
Когда удвоишь свои капиталы, - сказал Обломов.
Когда учетверю их, и тогда не перестану.
Так из чего же, - заговорил он, помолчав, - ты бьешься, если цель твоя не обеспечить себя навсегда и удалиться потом на покой, отдохнуть?..
Деревенская обломовщина! - сказал Штольц.
Или достигнуть службой значения и положения в обществе и потом в почетном бездействии наслаждаться заслуженным отдыхом...
Петербургская обломовщина! - возразил Штольц.
Так когда же жить? - с досадой на замечания Штольца возразил Обломов.
Для чего же мучиться весь век?
Для самого труда, больше ни для чего. Труд - образ, содержание, стихия и цель жизни, по крайней мере моей. Вон ты выгнал труд из жизни: на что она похожа? Я попробую приподнять тебя, может быть в последний раз. Если ты и после этого будешь сидеть вот тут, с Тарантьевыми и Алексеевыми, то совсем пропадешь, станешь в тягость даже себе. Теперь или никогда! -
заключил он.
Обломов слушал его, глядя на него встревоженными глазами. Друг как будто подставил ему зеркало, и он испугался, узнав себя.
Не брани меня, Андрей, а лучше в самом деле помоги! - начал он со вздохом. - Я сам мучусь этим; и если б ты посмотрел и послушал меня вот хоть бы сегодня, как я сам копаю себе могилу и оплакиваю себя, у тебя бы упрек не сошел с языка. Все знаю, все понимаю, но силы и воли нет. Дай мне своей воли и ума и веди меня, куда хочешь. За тобой я, может быть, пойду, а один не сдвинусь с места. Ты правду говоришь: "Теперь или никогда больше".
Еще год - поздно будет!
Ты ли это, Илья? - говорил Андрей. - А помню я тебя тоненьким, живым мальчиком, как ты каждый день с Пречистенки ходил в Кудрино; там, в садике... ты не забыл двух сестер? Не забыл Руссо, Шиллера, Гете, Байрона, которых носил им и отнимал у них романы Коттень, Жанлис... важничал перед ними, хотел очистить их вкус?..
Обломов вскочил с постели.
Как, ты и это помнишь, Андрей? Как же! Я мечтал с ними, нашептывал надежды на будущее, развивал планы, мысли и... чувства тоже, тихонько от тебя, чтоб ты на смех не поднял. Там все это и умерло, больше не повторялось никогда! Да и куда делось все - отчего погасло? Непостижимо!
Ведь ни бурь, ни потрясений не было у меня; не терял я ничего; никакое ярмо не тяготит моей совести: она чиста, как стекло; никакой удар не убил во мне самолюбия, а так, бог знает отчего, все пропадает!
Он вздохнул:
Знаешь ли, Андрей, в жизни моей ведь никогда не загоралось никакого, ни спасительного, ни разрушительного огня? Она не была похожа на утро, на которое постепенно падают краски, огонь, которое потом превращается в день, как у других, и пылает жарко, и все кипит, движется в ярком полудне, а потом все тише и тише, все бледнее, и все естественно и постепенно гаснет к вечеру. Нет, жизнь моя началась с погасания. Странно, а это так! С первой минуты, когда я сознал себя, я почувствовал, что я уже гасну! Начал гаснуть я над писаньем бумаг в канцелярии; гаснул потом, вычитывая в книгах истины, с которыми не знал, что делать в жизни, гаснул с приятелями, слушая толки, сплетни, передразниванье, злую и холодную болтовню, пустоту, глядя на дружбу, поддерживаемую сходками без цели, без симпатии; гаснул и губил силы с Миной: платил ей больше половины своего дохода и воображал, что люблю ее;
гаснул в унылом и ленивом хождении по Невскому проспекту, среди енотовых шуб и бобровых воротников, - на вечерах, в приемные дни, где оказывали мне радушие как сносному жениху; гаснул и тратил по мелочи жизнь и ум, переезжая из города на дачу, с дачи в Гороховую, определяя весну привозом устриц и омаров, осень и зиму - положенными днями, лето - гуляньями и всю жизнь -
ленивой и покойной дремотой, как другие... Даже самолюбие - на что оно тратилось? Чтоб заказывать платье у известного портного? Чтоб попасть в известный дом? Чтоб князь П* пожал мне руку? А ведь самолюбие - соль жизни!
Куда оно ушло? Или я не понял этой жизни, или она никуда не годится, а лучшего я ничего не знал, не видал, никто не указал мне его. Ты появлялся и исчезал, как комета, ярко, быстро, и я забывал все это и гаснул...
Штольц не отвечал уже небрежной насмешкой на речь Обломова. Он слушал и угрюмо молчал.
Ты сказал давеча, что у меня лицо не совсем свежо, измято, -
продолжал Обломов, - да, я дряблый, ветхий, изношенный кафтан, но не от климата, не от трудов, а от того, что двенадцать лет во мне был заперт свет, который искал выхода, но только жег свою тюрьму, не вырвался на волю и угас.
Итак, двенадцать лет, милый мой Андрей, прошло: не хотелось уж мне просыпаться больше.
Зачем же ты не вырвался, не бежал куда-нибудь, а молча погибал? -
нетерпеливо спросил Штольц.
Куда? Да хоть с своими мужиками на Волгу: и там больше движения, есть интересы какие-нибудь, цель, труд. Я бы уехал в Сибирь, в Ситху.
Вон ведь ты все какие сильные средства прописываешь! - заметил
Обломов уныло. - Да я ли один? Смотри: Михайлов, Петров, Семенов, Алексеев,
Степанов... не пересчитаешь: наше имя легион!
Штольц еще был под влиянием этой исповеди и молчал. Потом вздохнул.
Да, воды много утекло! - сказал он. - Я не оставлю тебя так, я увезу тебя отсюда, сначала за границу, потом в деревню: похудеешь немного, перестанешь хандрить, а там сыщем и дело...
Да, поедем куда-нибудь отсюда! - вырвалось у Обломова.
Завтра начнем хлопотать о паспорте за границу, потом станем собираться...
Я не отстану - слышишь, Илья?
Ты все завтра! - возразил Обломов, спустившись будто с облаков.
А тебе бы хотелось "не откладывать до завтра, что можно сделать сегодня"?
Какая прыть! Поздно нынче, - прибавил Штольц, - но через две недели мы будем далеко...
Что это, братец, через две недели, помилуй, вдруг так!.. - говорил
Обломов. - Дай хорошенько обдумать и приготовиться... Тарантас надо какой-нибудь... разве месяца через три.
Выдумал тарантас! До границы мы поедем в почтовом экипаже или на пароходе до Любека, как будет удобнее; а там во многих местах железные дороги есть.
А квартира, а Захар, а Обломовка? Ведь надо распорядиться, -
защищался Обломов.
Обломовщина, обломовщина! - сказал Штольц, смеясь, потом взял свечку, пожелал Обломову покойной ночи и пошел спать. - Теперь или никогда - помни!
Прибавил он, обернувшись к Обломову и затворяя за собой дверь.
"Теперь или никогда!" - явились Обломову грозные слова, лишь только он проснулся утром.
Он встал с постели, прошелся раза три по комнате, заглянул в гостиную:
Штольц сидит и пишет.
Захар! - кликнул он.
Не слышно прыжка с печки - Захар нейдет: Штольц услал его на почту.
Обломов подошел к своему запыленному столу, сел, взял перо, обмакнул в чернильницу, но чернил не было, поискал бумаги - тоже нет.
Он задумался и машинально стал чертить пальцем по пыли, потом посмотрел, что написал: вышло Обломовщина.
Он проворно стер написанное рукавом. Это слово снилось ему ночью написанное огнем на стенах, как Бальтазару на пиру.
Пришел Захар и, найдя Обломова не на постели, мутно поглядел на барина, удивляясь, что он на ногах. В этом тупом взгляде удивления написано было:
"Обломовщина!"
"Одно слово, - думал Илья Ильич, - а какое... ядовитое!.."
Захар, по обыкновению, взял гребенку, щетку, полотенце и подошел было причесать Илью Ильича.
Поди ты к черту! - сердито сказал Обломов и вышиб из рук Захара щетку, а Захар сам уже уронил и гребенку на пол.
Не ляжете, что ли, опять? - спросил Захар. - Так я бы поправил постель.
Принеси мне чернил и бумаги, - отвечал Обломов.
Обломов задумался над словами: "Теперь или никогда!"
Вслушиваясь в это отчаянное воззвание разума и силы, он сознавал и взвешивал, что" у него осталось еще в остатке воли и куда он понесет, во что положит этот скудный остаток.
После мучительной думы он схватил перо, вытащил из угла книгу и в один час хотел прочесть, написать и передумать все, чего не прочел, не написал и не передумал в десять лет.
Что ему делать теперь? Идти вперед или остаться? Этот обломовский вопрос был для него глубже гамлетовского. Идти вперед - это значит вдруг сбросить широкий халат не только с плеч, но и с души, с ума; вместе с пылью и паутиной со стен смести паутину с глаз и прозреть!
Какой первый шаг сделать к тому? С чего начать? Не знаю, не могу...
лукавлю, знаю и... Да и Штольц тут, под боком; он сейчас скажет.
А что он скажет? "В неделю, скажет, набросать подробную инструкцию поверенному и отправить его в деревню, Обломовку заложить, прикупить земли, послать план построек, квартиру сдать, взять паспорт и ехать на полгода за границу, сбыть лишний жир, сбросить тяжесть, освежить душу тем воздухом, о котором мечтал некогда с другом, пожить без халата, без Захара и Тарантьева, надевать самому чулки и снимать с себя сапоги, спать только ночью, ехать, куда все едут, по железным дорогам, на пароходах, потом...
Потом... поселиться в Обломовке, знать, что такое посев и умолот, отчего бывает мужик беден и богат; ходить в поле, ездить на выборы, на завод, на мельницы, на пристань. В то же время читать газеты, книги, беспокоиться о том, зачем англичане послали корабль на Восток..."
Вот что он скажет! Это значит идти вперед... И так всю жизнь! Прощай, поэтический идеал жизни! Это какая-то кузница, не жизнь; тут вечно пламя, трескотня, жар, шум... когда же пожить? Не лучше ли остаться?
Остаться - значит надевать рубашку наизнанку, слушать прыганье
Захаровых ног с лежанки, обедать с Тарантьевым, меньше думать обо всем, не дочитать до конца путешествия в Африку, состариться мирно на квартире у кумы
Тарантьева...
"Теперь или никогда!" "Быть или не быть!" Обломов приподнялся было с кресла, но не попал сразу ногой в туфлю и сел опять.
Через две недели Штольц уже уехал в Англию, взяв с Обломова слово приехать прямо в Париж. У Илья Ильича уже и паспорт был готов, он даже заказал себе дорожное пальто, купил фуражку. Вот как подвинулись дела.
Уже Захар глубокомысленно доказывал, что довольно заказать и одну пару сапог, а под другую подкинуть подметки. Обломов купил одеяло, шерстяную фуфайку, дорожный несессер, хотел - мешок для провизии, но десять человек сказали, что за границей провизии не возят.
Захар метался по мастеровым, по лавкам, весь в поту, и хоть много гривен и пятаков положил себе в карман от сдач по лавкам, но проклял и
Андрея Ивановича и всех, кто выдумал путешествия.
Что он там один-то будет делать? - говорил он в лавочке. - Там, слышь, служат господам все девки. Где девке сапоги стащить? И как она станет чулки натягивать на голые ноги барину?..
Он даже усмехнулся, так что бакенбарды поднялись в сторону, и покачал головой. Обломов не поленился, написал, что взять с собой и что оставить дома. Мебель и прочие вещи поручено Тарантьеву отвезти на квартиру к куме, на Выборгскую сторону, запереть их в трех комнатах и хранить до возвращения из-за границы.
Уже знакомые Обломова, иные с недоверчивостью, другие со смехом, а третьи с каким-то испугом, говорили: "Едет; представьте, Обломов сдвинулся с места!"
Но Обломов не уехал ни через месяц, ни через три.
Накануне отъезда у него ночью раздулась губа. "Муха укусила, нельзя же с этакой губой в море!" - сказал он и стал ждать другого парохода. Вот уж август, Штольц давно в Париже, пишет к нему неистовые письма, но ответа не получает.
Отчего же? Вероятно, чернила засохли в чернильнице и бумаги нет? Или, может быть, оттого, что в обломовском стиле часто сталкиваются который и что, или, наконец, Илья Ильич в грозном клике: теперь или никогда остановился на последнем, заложил руки под голову - и напрасно будит его
Нет, у него чернильница полна чернил, на столе лежат письма, бумага, даже гербовая, притом исписанная его рукой.
Написав несколько страниц, он ни разу не поставил два раза который;
слог его лился свободно и местами выразительно и красноречиво, как в "оны дни", когда он мечтал со Штольцем о трудовой жизни, о путешествии.
Встает он в семь часов, читает, носит куда-то книги. На лице ни сна, ни усталости, ни скуки. На нем появились даже краски, в глазах блеск, что-то вроде отваги или по крайней мере самоуверенности. Халата не видать на нем:
Тарантьев увез его с собой к куме с прочими вещами.
Обломов сидит с книгой или пишет в домашнем пальто; на шее надета легкая косынка; воротнички рубашки выпущены на галстук и блестят, как снег.
Выходит он в сюртуке, прекрасно сшитом, в щегольской шляпе... Он весел, напевает... Отчего же это?.
Вот он сидит у окна своей дачи (он живет на даче, в нескольких верстах от города), подле него лежит букет цветов. Он что-то проворно дописывает, а сам беспрестанно поглядывает через кусты, на дорожку, и опять спешит писать.
Вдруг по дорожке захрустел песок под легкими шагами; Обломов бросил перо, схватил букет и подбежал к окну.
Это вы, Ольга Сергеевна? Сейчас, сейчас! - сказал он, схватил фуражку, тросточку, выбежал в калитку, подал руку какой-то прекрасной женщине и исчез с ней в лесу, в тени огромных елей...
Захар вышел из-за какого-то угла, поглядел ему вслед, запер комнату и пошел в кухню.
Ушел! - сказал он Анисье.
А обедать будет?
Кто его знает? - сонно отвечал Захар.
Захар все такой же: те же огромные бакенбарды, небритая борода, тот же серый жилет и прореха на сюртуке, но он женат на Анисье, вследствие ли разрыва с кумой или так, по убеждению, что человек должен быть женат; он женился и, вопреки пословице, не переменился.
Штольц познакомил Обломова с Ольгой и ее теткой. Когда Штольц привел
Обломова в дом к Ольгиной тетке в первый раз, там были гости. Обломову было тяжело и, по обыкновению, неловко.
"Хорошо бы перчатки снять, - думал он, - ведь в комнате тепло. Как я отвык от всего!.."
Штольц сел подле Ольги, которая сидела одна, под лампой, поодаль от чайного стола, опершись спиной на кресло, и мало занималась тем, что вокруг нее происходило.
Она очень обрадовалась Штольцу; хотя глаза ее не зажглись блеском, щеки не запылали румянцем, но по всему лицу разлился ровный, покойный свет и явилась улыбка.
Она называла его другом, любила за то, что он всегда смешил ее и не давал скучать, но немного и боялась, потому что чувствовала себя слишком ребенком перед ним.
Когда у ней рождался в уме вопрос, недоумение, она не вдруг решалась поверить ему: он был слишком далеко впереди ее, слишком выше ее, так что самолюбие ее иногда страдало от этой недозрелости, от расстояния в их уме и летах.
Штольц тоже любовался ею бескорыстно, как чудесным созданием, с благоухающею свежестью ума и чувств. Она была в глазах его только прелестный, подающий большие надежды ребенок.
Штольц, однакож, говорил с ней охотнее и чаще, нежели с другими женщинами, потому что она, хотя бессознательно, но шла простым, природным путем жизни и по счастливой натуре, по здравому, не перехитренному воспитанию не уклонялась от естественного проявления мысли, чувства, воли, даже до малейшего, едва заметного движения глаз, губ, руки.
Не оттого ли, может быть, шагала она так уверенно по этому пути, что по временам слышала рядом другие, еще более уверенные шаги "друга", которому верила, и с ними соразмеряла свои шаг.
Как бы то ни было, но в редкой девице встретишь такую простоту и естественную свободу взгляда, слова, поступка. У ней никогда не прочтешь в глазах: "теперь я подожму немного губу и задумаюсь - я так недурна. Взгляну туда и испугаюсь, слегка вскрикну, сейчас подбегут ко мне. Сяду у фортепьяно и выставлю чуть-чуть кончик ноги"...
Ни жеманства, ни кокетства, никакой лжи, никакой мишуры, ни умысла!
Зато ее и ценил почти один Штольц, зато не одну мазурку просидела она одна, не скрывая скуки; зато, глядя на нее, самые любезные из молодых людей были неразговорчивы, не зная, что и как сказать ей...
Одни считали ее простой, недальней, неглубокой, потому что не сыпались с языка ее ни мудрые сентенции о жизни, о любви, ни быстрые, неожиданные и смелые реплики, ни вычитанные или подслушанные суждения о музыке и литературе: говорила она мало, и то свое, неважное - и ее обходили умные и бойкие "кавалеры"; небойкие, напротив, считали ее слишком мудреной и немного боялись. Один Штольц говорил с ней без умолка и смешил ее.
Любила она музыку, но пела чаще втихомолку, или Штольцу, или какой-нибудь пансионной подруге; а пела она, по словам Штольца, как ни одна певица не поет.
Только что Штольц уселся подле нее, как в комнате раздался ее смех, который был так звучен, так искренен и заразителен, что кто ни послушает этого смеха, непременно засмеется сам, не зная о причине.
Но не все смешил ее Штольц: через полчаса она слушала его с любопытством и с удвоенным любопытством переносила глаза на Обломова, а
Обломову от этих взглядов - хоть сквозь землю провалиться.
"Что они такое говорят обо мне?" - думал он, косясь в беспокойстве на них.
Он уже хотел уйти, но тетка Ольги подозвала его к столу и посадила подле себя, под перекрестный огонь взглядов всех собеседников.
Он боязливо обернулся к Штольцу - его уже не было, взглянул на Ольгу и встретил устремленный на него все тот же любопытный взгляд.
"Все еще смотрит!" - подумал он, в смущении оглядывая свое платье.
Он даже отер лицо платком, думая, не выпачкан ли у него нос, трогал себя за галстук, не развязался ли: это бывает иногда с ним; нет, все, кажется, в порядке, а она смотрит!
Но человек подал ему чашку чаю и поднос с кренделями. Он хотел подавить в себе смущение, быть развязным и в этой развязности захватил такую кучу сухарей, бисквитов, кренделей, что сидевшая с ним рядом девочка засмеялась.
Другие поглядывали на кучу с любопытством.
"Боже мой, и она смотрит! - думает Обломов. - Что я с этой кучей сделаю?"
Он, и не глядя, видел, как Ольга встала с своего места и пошла в другой угол. У него отлегло от сердца.
А девочка навострила на него глаза, ожидая, что он сделает с сухарями.
"Съем поскорей", - подумал он и начал проворно убирать бисквиты; к счастью, они так и таяли во рту.
Оставались только два сухаря; он вздохнул свободно и решился взглянуть туда, куда пошла Ольга...
Боже! Она стоит у бюста, опершись на пьедестал, и следит за ним. Она ушла из своего угла, кажется, затем, чтоб свободнее смотреть на него: она заметила его неловкость с сухарями.
За ужином она сидела на другом конце стола, говорила, ела и, казалось, вовсе не занималась им. Но едва только Обломов боязливо оборачивался в ее сторону, с надеждой, авось она не смотрит, как встречал ее взгляд, исполненный любопытства, но вместе такой добрый...
Обломов после ужина торопливо стал прощаться с теткой: она пригласила его на другой день обедать и Штольцу просила передать приглашение. Илья
Ильич поклонился и, не поднимая глаз, прошел всю залу. Вот сейчас за роялем ширмы и дверь. Он взглянул - за роялем сидела Ольга и смотрела на него с большим любопытством. Ему показалось, что она улыбалась.
"Верно, Андрей рассказал, что на мне были вчера надеты чулки разные или рубашка наизнанку!" - заключил он и поехал домой не в духе и от этого предположения и еще более от приглашения обедать, на которое отвечал поклоном: значит, принял.
С этой минуты настойчивый взгляд Ольги не выходил из головы Обломова.
Напрасно он во весь рост лег на спину, напрасно брал самые ленивые и покойные позы - не спится, да и только. И халат показался ему противен, и
Захар глуп и невыносим, и пыль с паутиной нестерпима.
Он велел вынести вон несколько дрянных картин, которые навязал ему какой-то покровитель бедных артистов; сам поправил штору, которая давно не поднималась, позвал Анисью и велел протереть окна, смахнул паутину, а потом лег на бок и продумал с час - об Ольге.
Он сначала пристально занялся ее наружностью, все рисовал в памяти ее портрет.
Ольга в строгом смысле не была красавица, то есть не было ни белизны в ней, ни яркого колорита щек и губ, и глаза не горели лучами внутреннего огня; ни кораллов на губах, ни жемчугу во рту не было, ни миньятюрных рук, как у пятилетнего ребенка, с пальцами в виде винограда.
Но если б ее обратить в статую, она была бы статуя грации и гармонии.
Несколько высокому росту строго отвечала величина головы, величине головы - овал и размеры лица; все это, в свою очередь, гармонировало с плечами, плечи - с станом...
Кто ни встречал ее, даже рассеянный, и тот на мгновение останавливался перед этим так строго и обдуманно, артистически созданным существом.
Нос образовал чуть заметно выпуклую, грациозную линию; губы тонкие и большею частию сжатые: признак непрерывно устремленной на что-нибудь мысли.
То же присутствие говорящей мысли светилось в зорком, всегда бодром, ничего не пропускающем взгляде темных, серо-голубых глаз. Брови придавали особенную красоту глазам: они не были дугообразны, не округляли глаз двумя тоненькими, нащипанными пальцем ниточками - нет, это были две русые, пушистые, почти прямые полоски, которые редко лежали симметрично: одна на линию была выше другой, от этого над бровью лежала маленькая складка, в которой как будто что-то говорило, будто там покоилась мысль.
Ходила Ольга с наклоненной немного вперед головой, так стройно, благородно покоившейся на тонкой, гордой, шее; двигалась всем телом ровно, шагая легко, почти неуловимо...
"Что это она вчера смотрела так пристально на меня? - думал Обломов. -
Андрей божится, что о чулках и о рубашке еще не говорил, а говорил о дружбе своей ко мне, о том, как мы росли, учились, - все, что было хорошего, и между тем (и это рассказал), как несчастлив Обломов, как гибнет все доброе от недостатка участия, деятельности, как слабо мерцает жизнь и как..."
"Чему ж улыбаться? - продолжал думать Обломов. - Если у ней есть сколько-нибудь сердца, оно должно бы замереть, облиться кровью от жалости, а она... ну, бог с ней! Перестану думать! Вот только съезжу сегодня, отобедаю
И ни ногой".
Проходили дни за днями: он там и обеими ногами, и руками, и головой.
В одно прекрасное утро Тарантьев перевез весь его дом к своей куме, в переулок, на Выборгскую сторону, и Обломов дня три провел, как давно не проводил: без постели, без дивана, обедал у Ольгиной тетки.
Вдруг оказалось, что против их дачи есть одна свободная. Обломов нанял ее заочно и живет там. Он с Ольгой с утра до вечера; он читает с ней, посылает цветы, гуляет по озеру, по горам... он, Обломов.
Чего не бывает на свете! Как же это могло случиться? А вот как.
Когда они обедали со Штольцем у ее тетки, Обломов во время обеда испытывал ту же пытку, что и накануне, жевал под ее взглядом, говорил, зная, чувствуя, что над ним, как солнце, стоит этот взгляд, жжет его, тревожит, шевелит нервы, кровь. Едва-едва на балконе, за сигарой, за дымом, удалось ему на мгновение скрыться от этого безмолвного, настойчивого взгляда.
Что это такое? - говорил он, ворочаясь во все стороны. - Ведь это мученье! На смех, что ли, я дался ей? На другого ни на кого не смотрит так:
не смеет. Я посмирнее, так вот она... Я заговорю с ней! - решил он, - и выскажу лучше сам словами то, что она так и тянет у меня из души глазами.
Вдруг она явилась перед ним на пороге балкона; он подал ей стул, и она села подле него.
Правда ли, что вы очень скучаете? - спросила она его.
Правда, - отвечал он, - но только не очень... У меня есть занятия.
Андрей Иваныч говорил, что вы пишете какой-то план?
Да, я хочу ехать в деревню пожить, так приготовляюсь понемногу.
А за границу поедете?
Да, непременно, вот как только Андрей Иваныч соберется.
Вы охотно едете? - спросила она.
Да, я очень охотно...
Он взглянул: улыбка так и ползает у ней по лицу, то осветит глаза, то разольется по щекам, только губы сжаты, как всегда. У него недостало духа солгать покойно.
Я немного... ленив... - сказал он, - но...
Ему стало вместе и досадно, что она так легко, почти молча, выманила у него сознание в лени. "Что она мне? Боюсь, что ли, я ее?" - думал он.
Ленивы! - возразила она с едва приметным лукавством. - Может ли это быть?
Мужчина ленив - я этого не понимаю.
"Чего тут не понимать? - подумал он, - кажется, просто".
Я все больше дома сижу, оттого Андрей и думает, что я...
Но, вероятно, вы много пишете, - сказала она, - читаете. - Читали ли вы?...
Она смотрела на него так пристально.
Нет, не читал! - вдруг сорвалось у него в испуге, чтоб она не вздумала его экзаменовать.
Чего? - засмеявшись, спросила она.
И он засмеялся...
Я думал, что вы хотите спросить меня о каком-нибудь романе: я их не читаю.
Не угадали; я хотела спросить о путешествиях...
Он зорко поглядел на нее: у ней все лицо смеялось, а губы нет...
"О! да она... с ней надо быть осторожным..." - думал Обломов.
Что же вы читаете? - с любопытством спросила она.
Я, точно, люблю больше путешествия...
В Африку? - лукаво и тихо спросила она.
Он покраснел, догадываясь, не без основания, что ей было известно не только о том, что он читает, но и как читает.
Вы музыкант? - спросила она, чтоб вывести его из смущения.
В это время подошел Штольц.
Илья! Вот я сказал Ольге Сергеевне, что ты страстно любишь музыку, просил спеть что-нибудь... Casta diva.
Зачем же ты наговариваешь на меня? - отвечал Обломов. - Я вовсе не страстно люблю музыку...
Каков? - перебил Штольц. - Он как будто обиделся! Я рекомендую его как порядочного человека, а он спешит разочаровать на свой счет!
Я уклоняюсь только от роли любителя: это сомнительная, да и трудная роль!
Какая же музыка вам больше нравится? - спросила Ольга.
Трудно отвечать на этот вопрос! всякая! Иногда я с удовольствием слушаю сиплую шарманку, какой-нибудь мотив, который заронился мне в память, в другой раз уйду на половине оперы; там Мейербер зашевелит меня; даже песня с барки: смотря по настроению! Иногда и от Моцарта уши зажмешь...
Значит, вы истинно любите музыку.
Спойте же что-нибудь, Ольга Сергеевна, - просил Штольц.
А если мусье Обломов теперь в таком настроении, что уши зажмет? -
сказала она, обращаясь к нему.
Тут следует сказать какой-нибудь комплимент, - отвечал Обломов. - Я
не умею, да если б и умел, так не решился бы...
Отчего же?
А если вы дурно поете! - наивно заметил Обломов. - Мне бы потом стало так неловко...
Как вчера с сухарями... - вдруг вырвалось у ней, и она сама покраснела и бог знает что дала бы, чтоб не сказать этого. - Простите -
виновата!.. - сказала она.
Обломов никак не ожидал этого и потерялся.
Это злое предательство! - сказал он вполголоса.
Нет, разве маленькое мщение, и то, ей-богу, неумышленное, за то, что у вас не нашлось даже комплимента для меня.
Может быть, найду, когда услышу.
А вы хотите, чтоб я спела? - спросила она.
Нет, это он хочет, - отвечал Обломов, указывая на Штольца.
Обломов покачал отрицательно головой:
Я не могу хотеть, чего не знаю.
Ты грубиян, Илья! - заметил Штольц. - Вот что значит залежаться дома и надевать чулки...
Помилуй, Андрей, - живо перебил Обломов, не давая ему договорить, -
мне ничего не стоит сказать: "Ах! я очень рад буду, счастлив, вы, конечно, отлично поете... - продолжал он, обратясь к Ольге, - это мне доставит..." и т.д. Да разве это нужно?
Но вы могли пожелать по крайней мере, чтоб я спела... хоть из любопытства.
Не смею, - отвечал Обломов, - вы не актриса...
Ну, я вам спою, - сказала она Штольцу.
Илья, готовь комплимент.
Между тем наступил вечер. Засветили лампу, которая, как луна, сквозила в трельяже с плющом. Сумрак скрыл очертания лица и фигуры Ольги и набросил на нее как будто флеровое покрывало; лицо было в тени: слышался только мягкий, но сильный голос, с нервной дрожью чувства.
Она пела много арий и романсов, по указанию Штольца; в одних выражалось страдание с неясным предчувствием счастья, в других - радость, но в звуках этих таился уже зародыш грусти.
От слов, от звуков, от этого чистого, сильного девического голоса билось сердце, дрожали нервы, глаза искрились и заплывали слезами. В один и тот же момент хотелось умереть, не пробуждаться от звуков, и сейчас же опять сердце жаждало жизни...
Обломов вспыхивал, изнемогал, с трудом сдерживал слезы, и еще труднее было душить ему радостный, готовый вырваться из души крик. Давно не чувствовал он такой бодрости, такой силы, которая, казалось, вся поднялась со дна души, готовая на подвиг.
Он в эту минуту уехал бы даже за границу, если б ему оставалось только сесть и поехать.
В заключение она запела Casta diva: все восторги, молнией несущиеся мысли в голове, трепет, как иглы, пробегающий по телу, - все это уничтожило
Обломова: он изнемог.
Довольны вы мной сегодня? - вдруг спросила Ольга Штольца, перестав петь.
Спросите Обломова, что он скажет? -сказал Штольц.
Ах! - вырвалось у Обломова.
Он вдруг схватил было Ольгу за руку и тотчас же оставил и сильно смутился.
Извините... - пробормотал он.
Слышите? -сказал ей Штольц. - Скажи по совести, Илья: как давно с тобой не случалось этого?
Это могло случиться сегодня утром, если мимо окон проходила сиплая шарманка... - вмешалась Ольга с добротой, так мягко, что вынула жало из сарказма.
Он с упреком взглянул на нее.
У него окна по сю пору не выставлены: не слыхать, что делается наруже, - прибавил Штольц.
Обломов с упреком взглянул на Штольца.
Штольц взял руку Ольги...
Не знаю, чему приписать, что вы сегодня пели, как никогда не пели,
Ольга Сергеевна, по крайней мере я давно не слыхал. Вот мой комплимент! -
сказал он, целуя каждый палец у нее.
Штольц уехал. Обломов тоже собрался, но Штольц и Ольга удержали его.
У меня дело есть, - заметил Штольц, - а ты ведь пойдешь лежать... еще рано...
Он не спал всю ночь: грустный, задумчивый проходил он взад и вперед по комнате; на заре ушел из дома, ходил по Неве, по улицам, бог знает что чувствуя, о чем думая...
Чрез три дня он опять был там и вечером, когда прочие гости уселись за карты, очутился у рояля, вдвоем с Ольгой. У тетки разболелась голова; она сидела в кабинете и нюхала спирт.
Хотите, я вам покажу коллекцию рисунков, которую Андрей Иваныч привез мне из Одессы? - спросила Ольга. - Он вам не показывал?
Вы, кажется, стараетесь по обязанности хозяйки занять меня? - спросил
Обломов. - Напрасно!
Отчего напрасно? Я хочу, чтоб вам не было скучно, чтоб вы были здесь как дома, чтоб вам было ловко, свободно, легко и чтоб не уехали... лежать.
"Она - злое, насмешливое создание!" - подумал Обломов, любуясь против воли каждым ее движением.
Вы хотите, чтоб мне было легко, свободно и не было скучно? - повторил он.
Да, - отвечала она, глядя на него по-вчерашнему, но еще с большим выражением любопытства и доброты.
Для этого, во-первых, не глядите на меня так, как теперь, и как глядели намедни...
Любопытство в ее глазах удвоилось.
Вот именно от этого взгляда мне становится очень неловко... Где моя шляпа?..
Отчего же неловко? - мягко спросила она, и взгляд ее потерял выражение любопытства. Он стал только добр и ласков.
Не знаю; только мне кажется, вы этим взглядом добываете из меня все то, что не хочется, чтоб знали другие, особенно вы...
Отчего же? Вы друг Андрея Иваныча, а он друг мне, следовательно...
Следовательно, нет причины, чтоб вы знали про меня все, что знает
Андрей Иваныч, - договорил он.
Причины нет, а есть возможность...
Благодаря откровенности моего друга - плохая услуга с его стороны!..
Разве у вас есть тайны? - спросила она. - Может быть, преступления? -
прибавила она, смеясь и отодвигаясь от него.
Может быть, - вздохнув, отвечал он.
Да, это важное преступление, - сказала она робко и тихо, - надевать разные чулки.
Обломов схватил шляпу.
Нет сил! - сказал он. - И вы хотите, чтоб мне было ловко! Я разлюблю
Андрея... Он и это сказал вам?
Он сегодня ужасно рассмешил меня этим, - прибавила Ольга, - он все смешит. Простите, не буду, не буду, и глядеть постараюсь на вас иначе...
Она сделала лукаво-серьезную мину.
Все это еще во-первых, - продолжала она, - ну, я не гляжу по-вчерашнему, стало быть вам теперь свободно, легко. Следует: во-вторых что надо сделать, чтоб вы не соскучились?
Он глядел прямо в ее серо-голубые, ласковые глаза.
Вот вы сами смотрите на меня теперь как-то странно... - сказала она.
Он в самом деле смотрел на нее как будто не глазами, а мыслью, всей своей волей, как магнетизер, но смотрел невольно, не имея силы не смотреть.
"Боже мой, какая она хорошенькая! Бывают же такие на свете! - думал он, глядя на нее почти испуганными глазами. - Эта белизна, эти глаза, где, как в пучине, темно и вместе блестит что-то... душа, должно быть! Улыбку можно читать, как книгу; за улыбкой эти зубы и вся голова... как она нежно покоится на плечах, точно зыблется, как цветок, дышит ароматом"...
"Да, я что-то добываю из нее, - думал он, - из нее что-то переходит в меня.
У сердца, вот здесь, начинает будто кипеть и биться... Тут я чувствую что-то лишнее, чего, кажется, не было... Боже мой, какое счастье смотреть на нее! Даже дышать тяжело".
У него вихрем неслись эти мысли, и он все смотрел на нее, как смотрят в бесконечную даль, в бездонную пропасть, с самозабвением, с негой.
Да полноте, мсье Обломов, теперь как вы сами смотрите на меня! -
говорила она, застенчиво отворачивая голову, но любопытство превозмогало, и она не сводила глаз с его лица.
Он не слышал ничего.
Он в самом деле все глядел и не слыхал ее слов и молча поверял, что в нем делается; дотронулся до головы - там тоже что-то волнуется, несется с быстротой. Он не успевает ловить мыслей: точно стая птиц, порхнули они, а у сердца, в левом боку, как будто болит.
Не смотрите же на меня так странно, - сказала она, - мне тоже неловко...
И вы, верно, хотите добыть что-нибудь из моей души...
Что я могу добыть у вас? - машинально спросил он.
У меня тоже есть планы, начатые и неконченные, - отвечала она.
Он очнулся от этого намека на его неконченный план.
Странно! - заметил он. - Вы злы, а взгляд у вас добрый. Недаром говорят, что женщинам верить нельзя: они лгут и с умыслом - языком, и без умысла - взглядом, улыбкой, румянцем, даже обмороками...
Она не дала усилиться впечатлению, тихо взяла у него шляпу и сама села на стул.
Не стану, не стану, - живо повторила она. - Ах! простите, несносный язык!
Но, ей-богу, это не насмешка! - почти пропела она, и в пении этой фразы задрожало чувство.
Обломов успокоился.
Этот Андрей!.. - с упреком произнес он.
Ну, во-вторых, скажите же, что делать, чтобы вы не соскучились? -
спросила она.
Спойте! - сказал он.
Вот он, комплимент, которого я ждала! - радостно вспыхнув, перебила она.
Знаете ли, - с живостью продолжала потом, - если б вы не сказали третьего дня этого "ах" после моего пения, я бы, кажется, не уснула ночь, может быть плакала бы.
Отчего? - с удивлением спросил Обломов.
Она задумалась.
Сама не знаю, - сказала потом.
Вы самолюбивы; это оттого.
Да, конечно, оттого, - говорила она, задумываясь и перебирая одной рукой клавиши, - но ведь самолюбие везде есть, и много. Андрей Иваныч говорит, что это почти единственный двигатель, который управляет волей. Вот у вас, должно быть, нет его, оттого вы все...
Она не договорила.
Что? - спросил он.
Нет, так, ничего, - замяла она. - Я люблю Андрея Иваныча, -
продолжала она, - не за то только, что он смешит меня, иногда он говорит - я плачу, и не за то, что он любит меня, а, кажется, за то... что он любит меня больше других: видите, куда вкралось самолюбие!
Вы любите Андрея? - спросил ее Обломов и погрузил напряженный, испытующии взгляд в ее глаза.
Да, конечно, если он любит меня больше других, я его и подавно, -
отвечала она серьезно.
Обломов глядел на нее молча; она ответила ему простым, молчаливым взглядом.
Он любит Анну Васильевну тоже, и Зинаиду Михайловну, да все не так, -
продолжала она, - он с ними не станет сидеть два часа, не смешит их и не рассказывает ничего от души; он говорит о делах, о театре, о новостях, а со мной он говорит, как с сестрой... нет, как с дочерью, - поспешно прибавила она, - иногда даже бранит, если я не пойму чего-нибудь вдруг или не послушаюсь, не соглашусь с ним. А их не бранит, и я, кажется, за это еще больше люблю его. Самолюбие! - прибавила она задумчиво, - но я не знаю, как оно сюда попало, в мое пение? Про него давно говорят мне много хорошего, а вы не хотели даже слушать меня, вас почти насильно заставили. И если б вы после этого ушли, не сказав мне ни слова, если б на лице у вас я не заметила ничего... я бы, кажется, захворала... да, точно, это самолюбие! - решительно заключила она.
А вы разве заметили у меня что-нибудь на лице? - спросил он.
Слезы, хотя вы и скрывали их; это дурная черта у мужчин - стыдиться своего сердца. Это тоже самолюбие, только фальшивое. Лучше бы они постыдились иногда своего ума: он чаще ошибается. Даже Андрей Иваныч, и тот стыдлив сердцем. Я ему это говорила, и он согласился со мной. А вы?
В чем не согласишься, глядя на вас! - сказал он.
Еще комплимент! Да какой...
Она затруднилась в слове.
Пошлый! - договорил Обломов, не спуская с нее глаз.
Она улыбкой подтвердила значение слова.
Вот я этого и боялся, когда не хотел просить вас петь... Что скажешь, слушая в первый раз? А сказать надо. Трудно быть умным и искренним в одно время, особенно в чувстве, под влиянием такого впечатления, как тогда...
А я в самом деле пела тогда, как давно не пела, даже, кажется, никогда...
Не просите меня петь, я не спою уже больше так... Постойте, еще одно спою... - сказала она, и в ту же минуту лицо ее будто вспыхнуло, глаза загорелись, она опустилась на стул, сильно взяла два-три аккорда и запела.
Боже мой, что слышалось в этом пении! Надежды, неясная боязнь гроз, самые грозы, порывы счастия - все звучало, не в песне, а в ее голосе.
Долго пела она, по временам оглядываясь к нему, детски спрашивая:
"Довольно? Нет, вот еще это", - и пела опять.
Щеки и уши рдели у нее от волнения; иногда на свежем лице ее вдруг сверкала игра сердечных молний, вспыхивал луч такой зрелой страсти, как будто она сердцем переживала далекую будущую пору жизни, и вдруг, опять потухал этот мгновенный луч, опять голос звучал свежо и серебристо.
И в Обломове играла такая же жизнь; ему казалось, что он живет и чувствует все это - не час, не два, а целые годы...
Оба они, снаружи неподвижные, разрывались внутренним огнем, дрожали одинаковым трепетом; в глазах стояли слезы, вызванные одинаковым настроением.
Все это симптомы тех страстей, которые должны, по-видимому, заиграть некогда в ее молодой душе, теперь еще подвластной только временным, летучим намекам и вспышкам спящих сил жизни.
У него на лице сияла заря пробужденного, со дна души восставшего счастья; наполненный слезами взгляд устремлен был на нее.
Теперь уж она, как он, также невольно взяла его за руку.
Что с вами? - спросила она. - Какое у вас лицо! Отчего?
Но она знала, отчего у него такое лицо, и внутренне скромно торжествовала, любуясь этим выражением своей силы.
Посмотрите в зеркало, - продолжала она, с улыбкой указывая ему его же лицо в зеркале, - глаза блестят, боже мой, слезы в них! Как глубоко вы чувствуете музыку!..
Нет, я чувствую... не музыку... а... любовь! - тихо сказал Обломов.
Она мгновенно оставила его руку и изменилась в лице. Ее взгляд встретился с его взглядом, устремленным на нее: взгляд этот был неподвижный, почти безумный; им глядел не Обломов, а страсть.
Ольга поняла, что у него слово вырвалось, что он не властен в нем и что оно - истина.
Он опомнился, взял шляпу и, не оглядываясь, выбежал из комнаты. Она уже не провожала его любопытным взглядом, она долго, не шевелясь, стояла у фортепьяно, как статуя, и упорно глядела вниз; только усиленно поднималась и опускалась грудь...
Обломову, среди ленивого лежанья в ленивых позах, среди тупой дремоты и среди вдохновенных порывов, на первом плане всегда грезилась женщина как жена и иногда - как любовница.
В мечтах пред ним носился образ высокой, стройной женщины, с покойно сложенными на груди руками, с тихим, но гордым взглядом, небрежно сидящей среди плющей в боскете, легко ступающей по ковру, по песку аллеи, с колеблющейся талией, с грациозно положенной на плечи головой, с задумчивым выражением - как идеал, как воплощение целой жизни, исполненной неги и торжественного покоя, как сам покой.
Снилась она ему сначала вся в цветах, у алтаря, с длинным покрывалом, потом у изголовья супружеского ложа, с стыдливо опущенными глазами, наконец
Матерью, среди группы детей.
Грезилась ему на губах ее улыбка, не страстная, глаза, не влажные от желаний, а улыбка, симпатичная к нему, к мужу, и снисходительная ко всем другим; взгляд, благосклонный только к нему и стыдливый, даже строгий, к другим.
Он никогда не хотел видеть трепета в ней, слышать горячей мечты, внезапных слез, томления, изнеможения и потом бешеного перехода к радости.
Не надо ни луны, ни грусти. Она не должна внезапно бледнеть, падать в обморок, испытывать потрясающие взрывы...
У таких женщин любовники есть, - говорил он, - да и хлопот много:
доктора, воды и пропасть разных причуд. Уснуть нельзя покойно!
А подле гордо-стыдливой, покойной подруги спит беззаботно человек. Он засыпает с уверенностью, проснувшись, встретить тот же кроткий, симпатичный взгляд. И чрез двадцать, тридцать лет на свой теплый взгляд он встретил бы в глазах ее тот же кроткий, тихо мерцающий луч симпатии. И так до гробовой доски!
"Да не это ли - тайная цель всякого и всякой: найти в своем друге неизменную физиономию покоя, вечное и ровное течение чувства? Ведь это норма любви, и чуть что отступает от нее, изменяется, охлаждается, - мы страдаем:
стало быть, мой идеал - общий идеал? - думал он. - Не есть ли это венец выработанности, выяснения взаимных отношений обоих полов?"
Давать страсти законный исход, указать порядок течения, как реке, для блага целого края - это общечеловеческая задача, это вершина прогресса, на которую лезут все эти Жорж Занды, да сбиваются в сторону. За решением ее ведь уже нет ни измен, ни охлаждений, а вечно ровное биение покойно-счастливого сердца, следовательно вечно наполненная жизнь, вечный сок жизни, вечное нравственное здоровье.
Есть примеры такого блага, но редкие: на них указывают, как на феномен.
Родиться, говорят, надо для этого. А бог знает, не воспитаться ли, не идти ли к этому сознательно?..
Страсть! Все это хорошо в стихах да на сцене, где в плащах, с ножами, расхаживают актеры, а потом идут, и убитые и убийцы, вместе ужинать...
Хорошо, если б и страсти так кончались, а то после них остаются: дым, смрад, а счастья нет! Воспоминания - один только стыд и рвание волос.
Наконец, если и постигнет такое несчастие - страсть, так это все равно, как случается попасть на избитую, гористую, несносную дорогу, по которой и лошади падают и седок изнемогает, а уж родное село в виду: не надо выпускать из глаз и скорей, скорей выбираться из опасного места...
Да, страсть надо ограничить, задушить и утопить в женитьбе...
Он с ужасом побежал бы от женщины, если она вдруг прожжет его глазами или сама застонет, упадет к нему на плечо с закрытыми глазами, потом очнется и обовьет руками шею до удушья... Это фейерверк, взрыв бочонка с порохом; а потом что? Оглушение, ослепление и опаленные волосы!
Но посмотрим, что за женщина Ольга!
Долго после того, как у него вырвалось признание, не видались они наедине.
Он прятался, как школьник, лишь только завидит Ольгу. Она переменилась с ним, но не бегала, не была холодна, а стала только задумчивее.
Ей, казалось, было жаль, что случилось что-то такое, что помешало ей мучить Обломова устремленным на него любопытным взглядом и добродушно уязвлять его насмешками над лежаньем, над ленью, над его неловкостью...
В ней разыгрывался комизм, но это был комизм матери, которая не может не улыбнуться, глядя на смешной наряд сына. Штольц уехал, и ей скучно было, что некому петь, рояль ее был закрыт - словом, на них обоих легло принуждение, оковы, обоим было неловко.
А как было пошло" хорошо! Как просто познакомились они! Как свободно сошлись! Обломов был проще Штольца и добрее его, хотя не смешил ее так или смешил собой и так легко прощал насмешки.
Потом еще Штольц, уезжая, завещал Обломова ей, просил приглядеть за ним, мешать ему сидеть дома. У ней, в умненькой, хорошенькой головке, развился уже подробный план, как она отучит Обломова спать после обеда, да не только спать - она не позволит ему даже прилечь на диване днем: возьмет с него слово.
Она мечтала, как "прикажет ему прочесть книги", которые оставил Штольц, потом читать каждый день газеты и рассказывать ей новости, писать в деревню письма, дописывать план устройства имения, приготовиться ехать за границу -
словом, он не задремлет у нее; она укажет ему цель, заставит полюбить опять все, что он разлюбил, и Штольц не узнает его воротясь.
И все это чудо сделает она, такая робкая, молчаливая, которой до сих пор никто не слушался, которая еще не начала жить! Она - виновница такого превращения!
Уж оно началось: только лишь она запела, Обломов - не тот...
Он будет жить, действовать, благословлять жизнь и ее. Возвратить человека к жизни - сколько славы доктору, когда он спасет безнадежного больного! А спасти нравственно погибающий ум, душу?..
Она даже вздрагивала от гордого, радостного трепета; считала это уроком, назначенным свыше. Она мысленно сделала его своим секретарем, библиотекарем.
И вдруг все это должно кончиться! Она не знала, как поступить ей, и оттого молчала, когда встречалась с Обломовым.
Обломов мучился тем, что он испугал, оскорбил ее, и ждал молниеносных взглядов, холодной строгости и дрожал, завидя ее, сворачивал в сторону.
Между тем уж он переехал на дачу и дня три пускался все один по кочкам, через болото, в лес или уходил в деревню и праздно сидел у крестьянских ворот, глядя, как бегают ребятишки, телята, как утки полощутся в пруде.
Около дачи было озеро, огромный парк: он боялся идти туда, чтоб не встретить Ольгу одну.
"Дернуло меня брякнуть!" - думал он и даже не спрашивал себя, в самом ли деле у него вырвалась истина или это только было мгновенным действием музыки на нервы.
Чувство неловкости, стыда, или "срама", как он выражался, который он наделал, мешало ему разобрать, что это за порыв был; и вообще, что такое для него Ольга? Уж он не анализировал, что прибавилось у него к сердцу лишнее, какой-то комок, которого прежде не было. В нем все чувства свернулись в один ком - стыда.
Когда же минутно являлась она в его воображении, там возникал и тот образ, тот идеал воплощенного покоя, счастья жизни: этот идеал точь-в-точь был - Ольга! Оба образа сходились и сливались в один.
Ах, что я наделал! - говорил он. - Все сгубил! Слава богу, что Штольц уехал: она не успела сказать ему, а то бы хоть сквозь землю провались!
Любовь, слезы - к лицу ли это мне? И тетка Ольги не шлет, не зовет к себе: верно, она сказала... Боже мой!..
Ольга затруднялась только тем, как она встретится с ним, как пройдет это событие: молчанием ли, как будто ничего не было, или надо сказать ему что-нибудь?
А что сказать? Сделать суровую мину, посмотреть на него гордо или даже вовсе не посмотреть, а надменно и сухо заметить, что она "никак не ожидала от него такого поступка: за кого он ее считает, что позволил себе такую дерзость?.." Так Сонечка в мазурке отвечала какому-то корнету, хотя сама из всех сил хлопотала, чтоб вскружить ему голову.
"Да что же тут дерзкого? - спросила она себя. - Ну, если он в самом деле чувствует, почему же не сказать?.. Однако как же это, вдруг, едва познакомился... Этого никто другой ни за что не сказал бы, увидя во второй, в третий раз женщину; да никто и не почувствовал бы так скоро любви. Это только Обломов мог..."
Но она вспомнила, что она слышала и читала, как любовь приходит иногда внезапно.
"И у него был порыв, увлечение; теперь он глаз не кажет: ему стыдно;
стало быть, это не дерзость. А кто виноват? - подумала еще. - Андрей Иваныч, конечно, потому что заставил ее петь".
Но Обломов сначала слушать не хотел - ей было досадно, и она...
старалась... Она сильно покраснела - да, всеми силами старалась расшевелить его.
Штольц сказал про него, что он апатичен, что ничто его не занимает, что все угасло в нем... Вот ей и захотелось посмотреть, все ли угасло, и она пела, пела... как никогда...
"Боже мой! да ведь я виновата: я попрошу у него прощения... А в чем? -
спросила потом. - Что я скажу ему: мосье Обломов, я виновата, я завлекала...
Какой стыд! Это неправда! - сказала она, вспыхнув и топнув ногой. - Кто смеет это подумать?.. Разве я знала, что выйдет? А если б этого не было, если б не вырвалось у него... что тогда?.. - спросила она. - Не знаю..." -
У ней с того дня как-то странно на сердце... должно быть, ей очень обидно... даже в жар кидает, на щеках рдеют два розовые пятнышка...
Раздражение... маленькая лихорадка, - говорил доктор.
"Что наделал этот Обломов! О, ему надо дать урок, чтоб этого вперед не было! Попрошу ma tante отказать ему от дома: он не должен забываться... Как он смел!" - думала она, идя по парку; глаза ее горели...
Вдруг кто-то идет, слышит она.
"Идет кто-то..." - подумал Обломов.
И сошлись лицом к лицу.
Ольга Сергеевна! - сказал он, трясясь, как осиновый лист.
Илья Ильич! - отвечала она робко, и оба остановились.
Здравствуйте, - сказал он.
Здравствуйте, - говорила она.
Вы куда идете? - спросил он.
Так... - сказала она, не поднимая глаз.
Я вам мешаю?
О, ничуть... - отвечала она, взглянув на него быстро и с любопытством.
Можно мне с вами? - спросил он вдруг, кинув на нее пытливый взгляд.
Они молча шли по дорожке. Ни от линейки учителя, ни от бровей директора никогда в жизни не стучало так сердце Обломова, как теперь. Он хотел что-то сказать, пересиливал себя, но слова с языка не шли; только сердце билось неимоверно, как перед бедой.
Не получили ли вы письма от Андрея Иваныча? - спросила она.
Получил, - отвечал Обломов.
Что он пишет?
Зовет в Париж.
Что ж вы?
Ужо... нет, завтра... как соберусь.
Отчего так скоро? - спросила она.
Он молчал.
Вам дача не нравится, или... скажите, отчего вы хотите уехать?
"Дерзкий! он еще ехать хочет!" - подумала она.
Мне отчего-то больно, неловко, жжет меня, - прошептал Обломов, не глядя на нее.
Она молчала, сорвала ветку сирени и нюхала ее, закрыв лицо и нос.
Понюхайте, как хорошо пахнет! - сказала она и закрыла нос и ему.
А вот ландыши! Постойте, я нарву, - говорил он, нагибаясь к траве, -
те лучше пахнут: полями, рощей; природы больше. А сирень все около домов растет, ветки так и лезут в окна, запах приторный. Вон еще роса на ландышах не высохла.
Он поднес ей несколько ландышей.
А резеду вы любите? - спросила она.
Нет: сильно очень пахнет; ни резеды, ни роз не люблю. Да я вообще не очень люблю цветов; в поле еще так, а в комнате - сколько возни с ними...
А вы любите, чтоб в комнатах чисто было? - спросила она, лукаво поглядывая на него. - Не терпите сору?
Да; но у меня человек такой... - бормотал он. "О, злая!" - прибавил про себя.
Вы прямо в Париж поедете? - спросила она.
Да; Штольц давно ждет меня.
Отвезите письмо к нему; я напишу, - сказала она.
Так дайте сегодня; я завтра в город перееду.
Завтра? - спросила она. - Отчего так скоро? Вас как будто гонит кто-нибудь.
И так гонит.
Стыд... - прошептал он.
Стыд! - повторила она машинально. "Вот теперь скажу ему: мсье
Обломов, я никак не ожидала..."
Да, Ольга Сергеевна, - наконец пересилил он себя, - вы, я думаю, удивляетесь... сердитесь...
"Ну, пора... вот настоящая минута. - Сердце так и стучало у ней. - Не могу, боже мой!"
Он старался заглянуть ей в лицо, узнать, что она; но она нюхала ландыши и сирени и не знала сама, что она... что ей сказать, что сделать.
"Ах, Сонечка сейчас бы что-нибудь выдумала, а я такая глупая! ничего не умею... мучительно!" - думала она.
Я совсем забыла... - сказала она.
Поверьте мне, это было невольно... я не мог удержаться... - заговорил он, понемногу вооружаясь смелостью. - Если б гром загремел тогда, камень упал бы надо мной, я бы все-таки сказал. Этого никакими силами удержать было нельзя... Ради бога, не подумайте, чтоб я хотел... Я сам через минуту бог знает что дал бы, чтоб воротить неосторожное слово...
Она шла, потупя голову и нюхая цветы.
Забудьте же это, - продолжал он, - забудьте, тем более что это неправда...
Неправда? - вдруг повторила она, выпрямилась и выронила цветы.
Глаза ее вдруг раскрылись широко и блеснули изумлением.
Как неправда? - повторила она еще.
Да, ради бога, не сердитесь и забудьте. Уверяю вас, это только минутное увлечение... от музыки.
Только от музыки!..
Она изменилась в лице: пропали два розовые пятнышка, и глаза потускли.
"Вот ничего и нет! Вот он взял назад неосторожное слово, и сердиться не нужно!.. Вот и хорошо... теперь покойно... Можно по-прежнему говорить, шутить..." - думала она и сильно рванула мимоходом ветку с дерева, оторвала губами один листок и потом тотчас же бросила и ветку и листок на дорожку.
Вы не сердитесь? Забыли? - говорил Обломов, наклоняясь к ней.
Да что такое? О чем вы просите? - с волнением, почти с досадой отвечала она, отворачиваясь от него. - Я все забыла... я такая беспамятная!
Он замолчал и не знал, что делать. Он видел только внезапную досаду и не видал причины.
"Боже мой! - думала она. - Вот все пришло в порядок; этой сцены как не бывало, слава богу! Что ж... Ах, боже мой! Что ж это такое? Ах, Сонечка,
Сонечка! Какая ты счастливая!"
Я домой пойду, - вдруг сказала она, ускоряя шаги и поворачивая в другую аллею.
У ней в горле стояли слезы. Она боялась заплакать.
Не туда, здесь ближе, - заметил Обломов. "Дурак, - сказал он сам себе уныло, - нужно было объясняться! Теперь пуще разобидел. Не надо было напоминать: оно бы так и прошло, само бы забылось. Теперь, нечего делать, надо выпросить прощение".
"Мне, должно быть, оттого стало досадно, - думала она, - что я не успела сказать ему: мсье Обломов, я никак не ожидала, чтобы вы позволили...
Он предупредил меня... "Неправда"! Скажите пожалуйста, он еще лгал! Да как он смел?"
Точно ли вы забыли? - спросил он тихо.
Забыла, все забыла! - скоро проговорила она, торопясь идти домой.
Дайте руку, в знак, что вы не сердитесь..
Она, не глядя на него, подала ему концы пальцев и, едва он коснулся их, тотчас же отдернула руку назад.
Нет, не сердитесь! - сказал он со вздохом. - Как уверить мне вас, что это было увлечение, что я не позволил бы себе забыться?.. Нет, конечно, не стану больше слушать вашего пения...
Никак не уверяйте: не надо мне ваших уверений... - с живостью сказала она. - Я и сама не стану петь!
Хорошо, я замолчу, - сказал он, - только, ради бога, не уходите так, а то у меня на душе останется такой камень.
Она пошла тише и стала напряженно прислушиваться к его словам.
Если правда, что вы заплакали бы, не услыхав, как я ахнул от вашего пения, то теперь, если вы так уйдете, не улыбнетесь, не подадите руки дружески, я... пожалейте, Ольга Сергеевна! Я буду нездоров, у меня колени дрожат, я насилу стою...
Отчего? - вдруг спросила она, взглянув на него.
И сам не знаю, - сказал он, - стыд у меня прошел теперь: мне не стыдно от моего слова... мне кажется, в нем...
Опять у него мурашки поползли по сердцу; опять что-то лишнее оказалось там; опять ее ласковый и любопытный взгляд стал жечь его. Она так грациозно оборотилась к нему, с таким беспокойством ждала ответа.
Что в нем? - нетерпеливо спросила она.
Нет, боюсь сказать: вы опять рассердитесь.
Говорите! - сказала она повелительно.
Он молчал.
Мне опять плакать хочется, глядя на вас... Видите, у меня нет самолюбия, я не стыжусь сердца...
Отчего же плакать? - спросила она, и на щеках появились два розовые пятна.
Что? - сказала она, и слезы отхлынули от груди; она ждала напряженно.
Они подошли к крыльцу.
Чувствую... - торопился досказать Обломов и остановился.
Она медленно, как будто с трудом, всходила по ступеням.
Ту же музыку... то же... волнение... то же... чув... простите, простите - ей-богу, не могу сладить с собой...
M-r Обломов... - строго начала она, потом вдруг лицо ее озарилось лучом улыбки, - я не сержусь, прощаю, - прибавила она мягко, - только вперед...
Она, не оборачиваясь, протянула ему назад руку; он схватил ее, поцеловал в ладонь; она тихо сжала его губы и мгновенно порхнула в стеклянную дверь, а он остался как вкопанный.
Иван Гончаров - Обломов - 03 , читать текст
См. также Гончаров Иван - Проза (рассказы, поэмы, романы...) :
Обломов - 04
VII Долго он глядел ей вслед большими глазами, с разинутым ртом, долго...
Обломов - 05
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ I Обломов сиял, идучи домой. У него кипела кровь, глаза...
Это был человек лет тридцати двух-трех от роду, среднего роста, приятной наружности, с темно-серыми глазами, но с отсутствием всякой определенной идеи, всякой сосредоточенности в чертах лица. Мысль гуляла вольной птицей по лицу, порхала в глазах, садилась на полуотворенные губы, пряталась в складках лба, потом совсем пропадала, и тогда во всем лице теплился ровный свет беспечности. С лица беспечность переходила в позы всего тела, даже в складки шлафрока.
Иногда взгляд его помрачался выражением будто усталости или скуки; но ни усталость, ни скука не могли ни на минуту согнать с лица мягкость, которая была господствующим и основным выражением, не лица только, а всей души; а душа так открыто и ясно светилась в глазах, в улыбке, в каждом движении головы, руки. И поверхностно наблюдательный, холодный человек, взглянув мимоходом на Обломова, сказал бы: «Добряк должен быть, простота!» Человек поглубже и посимпатичнее, долго вглядываясь в лицо его, отошел бы в приятном раздумье, с улыбкой.
Цвет лица у Ильи Ильича не был ни румяный, ни смуглый, ни положительно бледный, а безразличный или казался таким, может быть, потому, что Обломов как-то обрюзг не по летам: от недостатка ли движения или воздуха, а может быть, того и другого. Вообще же тело его, судя по матовому, чересчур белому цвету шеи, маленьких пухлых рук, мягких плеч, казалось слишком изнеженным для мужчины.
Движения его, когда он был даже встревожен, сдерживались также мягкостью и не лишенною своего рода грации ленью. Если на лицо набегала из души туча заботы, взгляд туманился, на лбу являлись складки, начиналась игра сомнений, печали, испуга; но редко тревога эта застывала в форме определенной идеи, еще реже превращалась в намерение. Вся тревога разрешалась вздохом и замирала в апатии или в дремоте.
Как шел домашний костюм Обломова к покойным чертам лица его и к изнеженному телу! На нем был халат из персидской материи, настоящий восточный халат, без малейшего намека на Европу, без кистей, без бархата, без талии, весьма поместительный, так что и Обломов мог дважды завернуться в него. Рукава, по неизменной азиатской моде, шли от пальцев к плечу все шире и шире. Хотя халат этот и утратил свою первоначальную свежесть и местами заменил свой первобытный, естественный лоск другим, благоприобретенным, но все еще сохранял яркость восточной краски и прочность ткани.
Халат имел в глазах Обломова тьму неоцененных достоинств: он мягок, гибок; тело не чувствует его на себе; он, как послушный раб, покоряется самомалейшему движению тела.
Обломов всегда ходил дома без галстука и без жилета, потому что любил простор и приволье. Туфли на нем были длинные, мягкие и широкие; когда он, не глядя, опускал ноги с постели на пол, то непременно попадал в них сразу.
Лежанье у Ильи Ильича не было ни необходимостью, как у больного или как у человека, который хочет спать, ни случайностью, как у того, кто устал, ни наслаждением, как у лентяя: это было его нормальным состоянием. Когда он был дома - а он был почти всегда дома, - он все лежал, и все постоянно в одной комнате, где мы его нашли, служившей ему спальней, кабинетом и приемной. У него было еще три комнаты, но он редко туда заглядывал, утром разве, и то не всякий день, когда человек мел кабинет его, чего всякий день не делалось. В тех комнатах мебель закрыта была чехлами, шторы спущены.
Комната, где лежал Илья Ильич, с первого взгляда казалась прекрасно убранною. Там стояло бюро красного дерева, два дивана, обитые шелковою материею, красивые ширмы с вышитыми небывалыми в природе птицами и плодами. Были там шелковые занавесы, ковры, несколько картин, бронза, фарфор и множество красивых мелочей.
Но опытный глаз человека с чистым вкусом одним беглым взглядом на все, что тут было, прочел бы только желание кое-как соблюсти decorum неизбежных приличий, лишь бы отделаться от них. Обломов хлопотал, конечно, только об этом, когда убирал свой кабинет. Утонченный вкус не удовольствовался бы этими тяжелыми, неграциозными стульями красного дерева, шаткими этажерками. Задок у одного дивана оселся вниз, наклеенное дерево местами отстало.
Точно тот же характер носили на себе и картины, и вазы, и мелочи.
Сам хозяин, однако, смотрел на убранство своего кабинета так холодно и рассеянно, как будто спрашивал глазами: «Кто сюда натащил и наставил все это?» От такого холодного воззрения Обломова на свою собственность, а может быть, и еще от более холодного воззрения на тот же предмет слуги его, Захара, вид кабинета, если осмотреть там все повнимательнее, поражал господствующею в нем запущенностью и небрежностью.
В комнату вошел пожилой человек, в сером сюртуке, с прорехою под мышкой, откуда торчал клочок рубашки, в сером же жилете, с медными пуговицами, с голым, как колено, черепом и с необъятно широкими и густыми русыми с проседью бакенбардами, из которых каждой стало бы на три бороды.
Захар не старался изменить не только данного ему Богом образа, но и своего костюма, в котором ходил в деревне. Платье ему шилось по вывезенному им из деревни образцу. Серый сюртук и жилет нравились ему и потому, что в этой полуформенной одежде он видел слабое воспоминание ливреи, которую он носил некогда, провожая покойных господ в церковь или в гости; а ливрея в воспоминаниях его была единственною представительницею достоинства дома Обломовых.
Более ничто не напоминало старику барского широкого и покойного быта в глуши деревни. Старые господа умерли, фамильные портреты остались дома и, чай, валяются где-нибудь на чердаке; предания о старинном быте и важности фамилии всё глохнут или живут только в памяти немногих, оставшихся в деревне же стариков. Поэтому для Захара дорог был серый сюртук: в нем да еще в кое-каких признаках, сохранившихся в лице и манерах барина, напоминавших его родителей, и в его капризах, на которые хотя он и ворчал, и про себя и вслух, но которые между тем уважал внутренно, как проявление барской воли, господского права, видел он слабые намеки на отжившее величие.
Без этих капризов он как-то не чувствовал над собой барина; без них ничто не воскрешало молодости его, деревни, которую они покинули давно, и преданий об этом старинном доме, единственной хроники, веденной старыми слугами, няньками, мамками и передаваемой из рода в род.
Дом Обломовых был когда-то богат и знаменит в своей стороне, но потом, бог знает отчего, все беднел, мельчал и, наконец, незаметно потерялся между нестарыми дворянскими домами. Только поседевшие слуги дома хранили и передавали друг другу верную память о минувшем, дорожа ею, как святынею.
Вот отчего Захар так любил свой серый сюртук. Может быть, и бакенбардами своими он дорожил потому, что видел в детстве своем много старых слуг с этим старинным, аристократическим украшением.
Илья Ильич, погруженный в задумчивость, долго не замечал Захара. Захар стоял перед ним молча. Наконец он кашлянул.
Что ты? - спросил Илья Ильич.
Ведь вы звали?
Звал? Зачем же это я звал - не помню! - отвечал он, потягиваясь. - Поди пока к себе, а я вспомню.
Захар ушел, а Илья Ильич продолжал лежать и думать о проклятом письме.
Прошло с четверть часа.
Ну, полно лежать! - сказал он, - надо же встать... А впрочем, дай-ка я прочту еще раз со вниманием письмо старосты, а потом уж и встану. Захар!
Опять тот же прыжок и ворчанье сильнее. Захар вошел, а Обломов опять погрузился в задумчивость. Захар стоял минуты две, неблагосклонно, немного стороной посматривая на барина, и, наконец, пошел к дверям.
Куда же ты? - вдруг спросил Обломов.
Вы ничего не говорите, так что ж тут стоять-то даром? - захрипел Захар, за неимением другого голоса, который, по словам его, он потерял на охоте с собаками, когда ездил с старым барином и когда ему дунуло будто сильным ветром в горло.
Он стоял вполуоборот среди комнаты и глядел все стороной на Обломова.
А у тебя разве ноги отсохли, что ты не можешь постоять? Ты видишь, я озабочен - так и подожди! Не належался еще там? Сыщи письмо, что я вчера от старосты получил. Куда ты его дел?
Какое письмо? Я никакого письма не видал, - сказал Захар.
Ты же от почтальона принял его: грязное такое!
Куда ж его положили - почему мне знать? - говорил Захар, похлопывая рукой по бумагам и по разным вещам, лежавшим на столе.
Ты никогда ничего не знаешь. Там, в корзине, посмотри! Или не завалилось ли за диван? Вот спинка-то у дивана до сих пор не починена; что б тебе призвать столяра да починить? Ведь ты же изломал. Ни о чем не подумаешь!
Я не ломал, - отвечал Захар, - она сама изломалась; не век же ей быть: надо когда-нибудь изломаться.
Илья Ильич не счел за нужное доказывать противное.
Нашел, что ли? - спросил он только.
Вот какие-то письма.
Ну, так нет больше, - говорил Захар.
Ну хорошо, поди! - с нетерпением сказал Илья Ильич, - я встану, сам найду.
Захар пошел к себе, но только он уперся было руками о лежанку, чтоб прыгнуть на нее, как опять послышался торопливый крик: «Захар, Захар!»
Ах ты, господи! - ворчал Захар, отправляясь опять в кабинет. - Что это за мученье? Хоть бы смерть скорее пришла!
Чего вам? - сказал он, придерживаясь одной рукой за дверь кабинета и глядя на Обломова, в знак неблаговоления, до того стороной, что ему приходилось видеть барина вполглаза, а барину видна была только одна необъятная бакенбарда, из которой так и ждешь, что вылетят две-три птицы.
Носовой платок, скорей! Сам бы ты мог догадаться: не видишь! - строго заметил Илья Ильич.
Захар не обнаружил никакого особенного неудовольствия или удивления при этом приказании и упреке барина, находя, вероятно, с своей стороны и то и другое весьма естественным.
А кто его знает, где платок? - ворчал он, обходя вокруг комнату и ощупывая каждый стул, хотя и так можно было видеть, что на стульях ничего не лежит.
Все теряете! - заметил он, отворяя дверь в гостиную, чтоб посмотреть, нет ли там.
Куда? Здесь ищи! Я с третьего дня там не был. Да скорее же! - говорил Илья Ильич.
Где платок? Нету платка! - говорил Захар, разводя руками и озираясь во все углы. - Да вон он, - вдруг сердито захрипел он, - под вами! Вон конец торчит. Сами лежите на нем, а спрашиваете платка!
И, не дожидаясь ответа, Захар пошел было вон. Обломову стало немного неловко от собственного промаха. Он быстро нашел другой повод сделать Захара виноватым.
Какая у тебя чистота везде: пыли-то, грязи-то, боже мой! Вон, вон, погляди-ка в углах-то - ничего не делаешь!
Уж коли я ничего не делаю... - заговорил Захар обиженным голосом, - стараюсь, жизни не жалею! И пыль-то стираю, и мету-то почти каждый день...
Он указал на середину пола и на cтол, на котором Обломов обедал.
Вон, вон, - говорил он, - все подметено, прибрано, словно к свадьбе... Чего еще?
А это что? - прервал Илья Ильич, указывая на стены и на потолок. - А это? А это? - Он указал и на брошенное со вчерашнего дня полотенце, и на забытую на столе тарелку с ломтем хлеба.
Ну, это, пожалуй, уберу, - сказал Захар снисходительно, взяв тарелку.
Только это! А пыль по стенам, а паутина?.. - говорил Обломов, указывая на стены.
Это я к Святой неделе убираю: тогда образа чищу и паутину снимаю...
А книги, картины обмести?..
Книги и картины перед Рождеством: тогда с Анисьей все шкапы переберем. А теперь когда станешь убирать? Вы всё дома сидите.
Я иногда в театр хожу да в гости: вот бы...
Что за уборка ночью!
Обломов с упреком поглядел на него, покачал головой и вздохнул, а Захар равнодушно поглядел в окно и тоже вздохнул. Барин, кажется, думал: «Ну, брат, ты еще больше Обломов, нежели я сам», а Захар чуть ли не подумал: «Врешь! ты только мастер говорить мудреные да жалкие слова, а до пыли и до паутины тебе и дела нет».
Понимаешь ли ты, - сказал Илья Ильич, - что от пыли заводится моль? Я иногда даже вижу клопа на стене!
У меня и блохи есть! - равнодушно отозвался Захар.
Разве это хорошо? Ведь это гадость! - заметил Обломов.
Захар усмехнулся во все лицо, так что усмешка охватила даже брови и бакенбарды, которые от этого раздвинулись в стороны, и по всему лицу до самого лба расплылось красное пятно.
Чем же я виноват, что клопы на свете есть? - сказал он с наивным удивлением. - Разве я их выдумал?
Это от нечистоты, - перебил Обломов. - Что ты все врешь!
И нечистоту не я выдумал.
У тебя, вот, там, мыши бегают по ночам - я слышу.
И мышей не я выдумал. Этой твари, что мышей, что кошек, что клопов, везде много.
Как же у других не бывает ни моли, ни клопов?
На лице Захара выразилась недоверчивость, или, лучше сказать, покойная уверенность, что этого не бывает.
У меня всего много, - сказал он упрямо, - за всяким клопом не усмотришь, в щелку к нему не влезешь.
А сам, кажется, думал: «Да и что за спанье без клопа?»
Ты мети, выбирай сор из углов - и не будет ничего, - учил Обломов.
Уберешь, а завтра опять наберется, - говорил Захар.
Не наберется, - перебил барин, - не должно.
Наберется - я знаю, - твердил слуга.
А наберется, так опять вымети.
Как это? Всякий день перебирай все углы? - спросил Захар. - Да что ж это за жизнь? Лучше Бог по душу пошли!
Отчего ж у других чисто? - возразил Обломов. - Посмотри напротив, у настройщика: любо взглянуть, а всего одна девка...
А где немцы сору возьмут, - вдруг возразил Захар. - Вы поглядите-ко, как они живут! Вся семья целую неделю кость гложет. Сюртук с плеч отца переходит на сына, а с сына опять на отца. На жене и дочерях платьишки коротенькие: всё поджимают под себя ноги, как гусыни... Где им сору взять? У них нет этого вот, как у нас, чтоб в шкапах лежала по годам куча старого изношенного платья или набрался целый угол корок хлеба за зиму... У них и корка зря не валяется: наделают сухариков да с пивом и выпьют!
Захар даже сквозь зубы плюнул, рассуждая о таком скаредном житье.
Нечего разговаривать! - возразил Илья Ильич, - ты лучше убирай.
Иной раз и убрал бы, да вы же сами не даете, - сказал Захар.
Пошел свое! Все, видишь, я мешаю.
Конечно, вы; все дома сидите: как при вас станешь убирать? Уйдите на целый день, так и уберу.
Вот еще выдумал что - уйти! Поди-ка ты лучше к себе.
Да право! - настаивал Захар. - Вот хоть бы сегодня ушли, мы бы с Анисьей и убрали все. И то не управимся вдвоем-то: надо еще баб нанять, перемыть все.
Э! какие затеи - баб! Ступай себе, - говорил Илья Ильич.
Он уж был не рад, что вызвал Захара на этот разговор. Он все забывал, что чуть тронешь этот деликатный предмет, так и не оберешься хлопот.
Обломову и хотелось бы, чтоб было чисто, да он бы желал, чтоб это сделалось как-нибудь так, незаметно, само собой; а Захар всегда заводил тяжбу, лишь только начинали требовать от него сметания пыли, мытья полов и т. п. Он в таком случае станет доказывать необходимость громадной возни в доме, зная очень хорошо, что одна мысль об этом приводила барина его в ужас.
Захар ушел, а Обломов погрузился в размышления. Чрез несколько минут пробило еще полчаса.
Что это? - почти с ужасом сказал Илья Ильич. - Одиннадцать часов скоро, а я еще не встал, не умылся до сих пор? Захар, Захар!
Ах ты, боже мой! Ну! - послышалось из передней, и потом известный прыжок.
Умыться готово? - спросил Обломов.
Готово давно! - отвечал Захар, - чего вы не встаете?
Что ж ты не скажешь, что готово? Я бы уж и встал давно. Поди же, я сейчас иду вслед за тобою. Мне надо заниматься, я сяду писать.
Захар ушел, но чрез минуту воротился с исписанной и замасленной тетрадкой и клочками бумаги.
Вот, коли будете писать, так уж кстати извольте и счеты поверить: надо деньги заплатить.
Какие счеты? Какие деньги? - с неудовольствием спросил Илья Ильич.
Ну, мне пора! - сказал Волков. - За камелиями для букета Мише. Au revoir.
Приезжайте вечером чай пить, из балета: расскажете, как там что было, - приглашал Обломов.
Не могу, дал слово к Муссинским: их день сегодня. Поедемте и вы. Хотите, я вас представлю?
Нет, что там делать?
У Муссинских? Помилуйте, да там полгорода бывает. Как что делать? Это такой дом, где обо всем говорят...
Вот это-то и скучно, что обо всем, - сказал Обломов.
Ну, посещайте Мездровых, - перебил Волков, - там уж об одном говорят, об искусствах; только и слышишь: венецианская школа, Бетховен да Бах, Леонардо да Винчи...
Век об одном и том же - какая скука! Педанты, должно быть! - сказал, зевая, Обломов.
На вас не угодишь. Да мало ли домов! Теперь у всех дни: у Савиновых по четвергам обедают, у Маклашиных - пятницы, у Вязниковых - воскресенья, у князя Тюменева - середы. У меня все дни заняты! - с сияющими глазами заключил Волков.
И вам не лень мыкаться изо дня в день?
Вот, лень! Что за лень? Превесело! - беспечно говорил он. - Утро почитаешь, надо быть au courant всего, знать новости. Слава богу, у меня служба такая, что не нужно бывать в должности. Только два раза в неделю посижу да пообедаю у генерала, а потом поедешь с визитами, где давно не был; ну, а там... новая актриса, то на русском, то на французском театре. Вот опера будет, я абонируюсь. А теперь влюблен... Начинается лето; Мише обещали отпуск; поедем к ним в деревню на месяц, для разнообразия. Там охота. У них отличные соседи, дают bals champêtres. С Лидией будем в роще гулять, кататься в лодке, рвать цветы... Ах!.. - и он перевернулся от радости. - Однако пора... Прощайте, - говорил он, напрасно стараясь оглядеть себя спереди и сзади в запыленное зеркало.
Погодите, - удерживал Обломов, - я было хотел поговорить с вами о делах.
Это был господин в темно-зеленом фраке с гербовыми пуговицами, гладко выбритый, с темными, ровно окаймлявшими его лицо бакенбардами, с утружденным, но покойно-сознательным выражением в глазах, с сильно потертым лицом, с задумчивой улыбкой.
Здравствуй, Судьбинский! - весело поздоровался Обломов. - Насилу заглянул к старому сослуживцу! Не подходи, не подходи! Ты с холоду.
Здравствуй, Илья Ильич. Давно собирался к тебе, - говорил гость, - да ведь ты знаешь, какая у нас дьявольская служба! Вон, посмотри, целый чемодан везу к докладу; и теперь, если там спросят что-нибудь, велел курьеру скакать сюда. Ни минуты нельзя располагать собой.
Ты еще на службу? Что так поздно? - спросил Обломов. - Бывало, ты с десяти часов...
Бывало - да; а теперь другое дело: в двенадцать часов езжу. - Он сделал на последнем слове ударение.
А! догадываюсь! - сказал Обломов. - Начальник отделения! Давно ли?
Судьбинский значительно кивнул головой.
К Святой, - сказал он. - Но сколько дела - ужас! С восьми до двенадцати часов дома, с двенадцати до пяти в канцелярии, да вечером занимаюсь. От людей отвык совсем!
Гм! Начальник отделения - вот как! - сказал Обломов. - Поздравляю! Каков? А вместе канцелярскими чиновниками служили. Я думаю, на будущий год в статские махнешь.
Куда! Бог с тобой! Еще нынешний год корону надо получить; думал, за отличие представят, а теперь новую должность занял: нельзя два года сряду...
Приходи обедать, выпьем за повышение! - сказал Обломов.
Нет, сегодня у вице-директора обедаю. К четвергу надо приготовить доклад - адская работа! На представления из губерний положиться нельзя. Надо проверить самому списки. Фома Фомич такой мнительный: все хочет сам. Вот сегодня вместе после обеда и засядем.
Ужели и после обеда? - спросил Обломов недоверчиво.
А как ты думал? Еще хорошо, если пораньше отделаюсь да успею хоть в Екатерингоф прокатиться... Да, я заехал спросить: не поедешь ли ты на гулянье? Я бы заехал...
Нездоровится что-то, не могу! - сморщившись, сказал Обломов. - Да и дела много... нет, не могу!
Жаль! - сказал Судьбинский, - а день хорош. Только сегодня и надеюсь вздохнуть.
Ну, что нового у вас? - спросил Обломов.
Ничего пока; Свинкин дело потерял!
В самом деле? Что ж директор? - спросил Обломов дрожащим голосом. Ему, по старой памяти, страшно стало.
Велел задержать награду, пока не отыщется. Дело важное: «о взысканиях». Директор думает, - почти шепотом прибавил Судьбинский, - что он потерял его... нарочно.
Не может быть! - сказал Обломов.
Нет, нет! Это напрасно, - с важностью и покровительством подтвердил Судьбинский. - Свинкин ветреная голова. Иногда черт знает какие тебе итоги выведет, перепутает все справки. Я измучился с ним; а только нет, он не замечен ни в чем таком... Он не сделает, нет, нет! Завалялось дело где-нибудь; после отыщется.
Так вот как: всё в трудах! - говорил Обломов, - работаешь.
Ужас, ужас! Ну, конечно, с таким человеком, как Фома Фомич, приятно служить: без наград не оставляет; кто и ничего не делает, и тех не забудет. Как вышел срок - за отличие, так и представляет; кому не вышел срок к чину, к кресту, - деньги выхлопочет...
Ты сколько получаешь?
Фу! черт возьми! - сказал, вскочив с постели, Обломов. - Голос, что ли, у тебя хорош? Точно итальянский певец!
Что еще это? Вон Пересветов прибавочные получает, а дела-то меньше моего делает и не смыслит ничего. Ну, конечно, он не имеет такой репутации. Меня очень ценят, - скромно прибавил он, потупя глаза, - министр недавно выразился про меня, что я «украшение министерства».
Молодец! - сказал Обломов. - Вот только работать с восьми часов до двенадцати, с двенадцати до пяти, да дома еще - ой, ой!
Он покачал головой.
А что ж бы я стал делать, если б не служил? - спросил Судьбинский.
Мало ли что! Читал бы, писал... - сказал Обломов.
Я и теперь только и делаю, что читаю да пишу.
Да это не то; ты бы печатал...
Не всем же быть писателями. Вот и ты ведь не пишешь, - возразил Судьбинский.
Зато у меня имение на руках, - со вздохом сказал Обломов. - Я соображаю новый план; разные улучшения ввожу. Мучаюсь, мучаюсь... А ты ведь чужое делаешь, не свое.
Он добрый малый! - сказал Обломов.
Добрый, добрый; он стоит.
Очень добрый, характер мягкий, ровный, - говорил Обломов.
Такой обязательный, - прибавил Судьбинский, - и нет этого, знаешь, чтоб выслужиться, подгадить, подставить ногу, опередить... все делает, что может.
Прекрасный человек! Бывало, напутаешь в бумаге, не доглядишь, не то мнение или законы подведешь в записке, ничего: велит только другому переделать. Отличный человек! - заключил Обломов.
А вот наш Семен Семеныч так неисправим, - сказал Судьбинский, - только мастер пыль в глаза пускать. Недавно что он сделал: из губерний поступило представление о возведении при зданиях, принадлежащих нашему ведомству, собачьих конур для сбережения казенного имущества от расхищения; наш архитектор, человек дельный, знающий и честный, составил очень умеренную смету; вдруг показалась ему велика, и давай наводить справки, что может стоить постройка собачьей конуры? Нашел где-то тридцатью копейками меньше - сейчас докладную записку...
Раздался еще звонок.
Прощай, - сказал чиновник, - я заболтался, что-нибудь понадобится там...
Посиди еще, - удерживал Обломов. - Кстати, я посоветуюсь с тобой: у меня два несчастья...
Нет, нет, я лучше опять заеду на днях, - сказал он, уходя.
«Увяз, любезный друг, по уши увяз, - думал Обломов, провожая его глазами. - И слеп, и глух, и нем для всего остального в мире. А выйдет в люди, будет со временем ворочать делами и чинов нахватает... У нас это называется тоже карьерой! А как мало тут человека-то нужно: ума его, воли, чувства - зачем это? Роскошь! И проживет свой век, и не пошевелится в нем многое, многое... А между тем работает с двенадцати до пяти в канцелярии, с восьми до двенадцати дома - несчастный!»
Он испытал чувство мирной радости, что он с девяти до трех, с восьми до девяти может пробыть у себя на диване, и гордился, что не надо идти с докладом, писать бумаг, что есть простор его чувствам, воображению.
Много у вас дела? - спросил Обломов.
Да, довольно. Две статьи в газету каждую неделю, потом разборы беллетристов пишу, да вот написал рассказ...
О том, как в одном городе городничий бьет мещан по зубам...
Да, это в самом деле реальное направление, - сказал Обломов.
Не правда ли? - подтвердил обрадованный литератор. - Я провожу вот какую мысль и знаю, что она новая и смелая. Один проезжий был свидетелем этих побоев и при свидании с губернатором пожаловался ему. Тот приказал чиновнику, ехавшему туда на следствие, мимоходом удостовериться в этом и вообще собрать сведения о личности и поведении городничего. Чиновник созвал мещан, будто расспросить о торговле, а между тем давай разведывать и об этом. Что ж мещане? Кланяются да смеются и городничего превозносят похвалами. Чиновник стал узнавать стороной, и ему сказали, что мещане - мошенники страшные, торгуют гнилью, обвешивают, обмеривают даже казну, все безнравственны, так что побои эти - праведная кара...
Стало быть, побои городничего выступают в повести, как fatum древних трагиков? - сказал Обломов.
Именно, - подхватил Пенкин. - У вас много такта, Илья Ильич, вам бы писать! А между тем мне удалось показать и самоуправство городничего, и развращение нравов в простонародье; дурную организацию действий подчиненных чиновников и необходимость строгих, но законных мер... Не правда ли, эта мысль... довольно новая?
Да, в особенности для меня, - сказал Обломов, - я так мало читаю...
В самом деле не видать книг у вас! - сказал Пенкин. - Но, умоляю вас, прочтите одну вещь; готовится великолепная, можно сказать, поэма: «Любовь взяточника к падшей женщине». Я не могу вам сказать, кто
Что ж там такое?
Обнаружен весь механизм нашего общественного движения, и все в поэтических красках. Все пружины тронуты; все ступени общественной лестницы перебраны. Сюда, как на суд, созваны автором и слабый, но порочный вельможа, и целый рой обманывающих его взяточников; и все разряды падших женщин разобраны... француженки, немки, чухонки, и всё, всё... с поразительной, животрепещущей верностью... Я слышал отрывки - автор велик! в нем слышится то Дант, то Шекспир...
Вон куда хватили, - в изумлении сказал Обломов, привстав.
Пенкин вдруг смолк, видя, что действительно он далеко хватил.
Отчего ж? Это делает шум, об этом говорят...
Да пускай их! Некоторым ведь больше нечего и делать, как только говорить. Есть такое призвание.
Да хоть из любопытства прочтите.
Чего я там не видал? - говорил Обломов. - Зачем это они пишут: только себя тешат...
Как себя: верность-то, верность какая! До смеха похоже. Точно живые портреты. Как кого возьмут, купца ли, чиновника, офицера, будочника, - точно живьем и отпечатают.
Из чего же они бьются: из потехи, что ли, что вот кого-де ни возьмем, а верно и выйдет? А жизни-то и нет ни в чем: нет понимания ее и сочувствия, нет того, что там у вас называется гуманитетом. Одно самолюбие только. Изображают-то они воров, падших женщин, точно ловят их на улице да отводят в тюрьму. В их рассказе слышны не «невидимые слезы», а один только видимый, грубый смех, злость...
Что ж еще нужно? И прекрасно, вы сами высказались: это кипучая злость - желчное гонение на порок, смех презрения над падшим человеком... тут все!
Нет, не все! - вдруг воспламенившись, сказал Обломов, - изобрази вора, падшую женщину, надутого глупца, да и человека тут же не забудь. Где же человечность-то? Вы одной головой хотите писать! - почти шипел Обломов. - Вы думаете, что для мысли не надо сердца? Нет, она оплодотворяется любовью. Протяните руку падшему человеку, чтоб поднять его, или горько плачьте над ним, если он гибнет, а не глумитесь. Любите его, помните в нем самого себя и обращайтесь с ним, как с собой, - тогда я стану вас читать и склоню перед вами голову... - сказал он, улегшись опять покойно на диване. - Изображают они вора, падшую женщину, - говорил он, - а человека-то забывают или не умеют изобразить. Какое же тут искусство, какие поэтические краски нашли вы? Обличайте разврат, грязь, только, пожалуйста, без претензии на поэзию.
Что же, природу прикажете изображать: розы, соловья или морозное утро, между тем как все кипит, движется вокруг? Нам нужна одна голая физиология общества; не до песен нам теперь...
Человека, человека давайте мне! - говорил Обломов, - любите его...
Любить ростовщика, ханжу, ворующего или тупоумного чиновника - слышите? Что вы это? И видно, что вы не занимаетесь литературой! - горячился Пенкин. - Нет, их надо карать, извергнуть из гражданской среды, из общества...
Извергнуть из гражданской среды! - вдруг заговорил вдохновенно Обломов, встав перед Пенкиным. - Это значит забыть, что в этом негодном сосуде присутствовало высшее начало; что он испорченный человек, но все человек же, то есть вы сами. Извергнуть! А как вы извергнете его из круга человечества, из лона природы, из милосердия Божия? - почти крикнул он с пылающими глазами.
Вон куда хватили! - в свою очередь с изумлением сказал Пенкин.
Обломов увидел, что и он далеко хватил. Он вдруг смолк, постоял с минуту, зевнул и медленно лег на диван.
Оба погрузились в молчание.
Что ж вы читаете? - спросил Пенкин.
Я... да все путешествия больше.
Опять молчание.
Так прочтете поэму, когда выйдет? Я бы принес... - спросил Пенкин.
Обломов сделал отрицательный знак головой.
Ну, я вам свой рассказ пришлю?
Обломов кивнул в знак согласия...
Однако мне пора в типографию! - сказал Пенкин. - Я, знаете, зачем пришел к вам? Я хотел предложить вам ехать в Екатерингоф; у меня коляска. Мне завтра надо статью писать о гулянье: вместе бы наблюдать стали, чего бы не заметил я, вы бы сообщили мне; веселее бы было. Поедемте...
Нет, нездоровится, - сказал Обломов, морщась и прикрываясь одеялом, - сырости боюсь, теперь еще не высохло. А вот вы бы сегодня обедать пришли: мы бы поговорили... У меня два несчастья...
Нет, наша редакция вся у Сен-Жоржа сегодня, оттуда и поедем на гулянье. А ночью писать и чем свет в типографию отсылать. До свидания.
До свиданья, Пенкин.
«Ночью писать, - думал Обломов, - когда же спать-то? А поди, тысяч пять в год заработает! Это хлеб! Да писать-то все, тратить мысль, душу свою на мелочи, менять убеждения, торговать умом и воображением, насиловать свою натуру, волноваться, кипеть, гореть, не знать покоя и все куда-то двигаться... И все писать, все писать, как колесо, как машина: пиши завтра, послезавтра; праздник придет, лето настанет - а он все пиши? Когда же остановиться и отдохнуть? Несчастный!»
Он повернул голову к столу, где все было гладко, и чернила засохли, и пера не видать, и радовался, что лежит он, беззаботен, как новорожденный младенец, что не разбрасывается, не продает ничего...
«А письмо старосты, а квартира?» - вдруг вспомнил он и задумался.
Отец его, провинциальный подьячий старого времени, назначал было сыну в наследство искусство и опытность хождения по чужим делам и свое ловко пройденное поприще служения в присутственном месте; но судьба распорядилась иначе. Отец, учившийся сам когда-то по-русски на медные деньги, не хотел, чтоб сын его отставал от времени, и пожелал поучить чему-нибудь, кроме мудреной науки хождения по делам. Он года три посылал его к священнику учиться по-латыни.
Способный от природы мальчик в три года прошел латынскую грамматику и синтаксис и начал было разбирать Корнелия Непота, но отец решил, что довольно и того, что он знал, что уж и эти познания дают ему огромное преимущество над старым поколением и что, наконец, дальнейшие занятия могут, пожалуй, повредить службе в присутственных местах.
Шестнадцатилетний Михей, не зная, что делать с своей латынью, стал в доме родителей забывать ее, но зато, в ожидании чести присутствовать в земском или уездном суде, присутствовал пока на всех пирушках отца, и в этой-то школе, среди откровенных бесед, до тонкости развился ум молодого человека.
Он с юношескою впечатлительностью вслушивался в рассказы отца и товарищей его о разных гражданских и уголовных делах, о любопытных случаях, которые проходили через руки всех этих подьячих старого времени.
Но все это ни к чему не повело. Из Михея не выработался делец и крючкотворец, хотя все старания отца и клонились к этому и, конечно, увенчались бы успехом, если б судьба не разрушила замыслов старика. Михей действительно усвоил себе всю теорию отцовских бесед, оставалось только применить ее к делу, но за смертью отца он не успел поступить в суд и был увезен в Петербург каким-то благодетелем, который нашел ему место писца в одном департаменте, да потом и забыл о нем.
Так Тарантьев и остался только теоретиком на всю жизнь. В петербургской службе ему нечего было делать с своею латынью и с тонкой теорией вершить по своему произволу правые и неправые дела; а между тем он носил и сознавал в себе дремлющую силу, запертую в нем враждебными обстоятельствами навсегда, без надежды на проявление, как бывали запираемы, по сказкам, в тесных заколдованных стенах духи зла, лишенные силы вредить. Может быть, от этого сознания бесполезной силы в себе Тарантьев был груб в обращении, недоброжелателен, постоянно сердит и бранчив.
Он с горечью и презрением смотрел на свои настоящие занятия: на переписыванье бумаг, на подшиванье дел и т. п. Ему вдали улыбалась только одна последняя надежда: перейти служить по винным откупам.[ На этой дороге он видел единственную выгодную замену поприща, завещанного ему отцом и не достигнутого. А в ожидании этого готовая и созданная ему отцом теория деятельности и жизни, теория взяток и лукавства, миновав главное и достойное ее поприще в провинции, применилась ко всем мелочам его ничтожного существования в Петербурге, вкралась во все его приятельские отношения за недостатком официальных.
Он был взяточник в душе, по теории, ухитрялся брать взятки, за неимением дел и просителей, с сослуживцев, с приятелей, бог знает как и за что - заставлял, где и кого только мог, то хитростью, то назойливостью, угощать себя, требовал от всех незаслуженного уважения, был придирчив. Его никогда не смущал стыд за поношенное платье, но он не чужд был тревоги, если в перспективе дня не было у него громадного обеда, с приличным количеством вина и водки.
От этого он в кругу своих знакомых играл роль большой сторожевой собаки, которая лает на всех, не дает никому пошевелиться, но которая в то же время непременно схватит на лету кусок мяса, откуда и куда бы он ни летел.
Таковы были два самые усердные посетителя Обломова.
Зачем эти два русские пролетария ходили к нему? Они очень хорошо знали зачем: пить, есть, курить хорошие сигары. Они находили теплый, покойный приют и всегда одинаково если не радушный, то равнодушный прием.
Но зачем пускал их к себе Обломов - в этом он едва ли отдавал себе отчет. А кажется, затем, зачем еще о сю пору в наших отдаленных Обломовках, в каждом зажиточном доме толпится рой подобных лиц обоего пола, без хлеба, без ремесла, без рук для производительности и только с желудком для потребления, но почти всегда с чином и званием.
Есть еще сибариты, которым необходимы такие дополнения в жизни: им скучно без лишнего на свете. Кто подаст куда-то запропастившуюся табакерку или поднимет упавший на пол платок? Кому можно пожаловаться на головную боль с правом на участие, рассказать дурной сон и потребовать истолкования? Кто почитает книжку на сон грядущий и поможет заснуть? А иногда такой пролетарий посылается в ближайший город за покупкой, поможет по хозяйству - не самим же мыкаться!
Тарантьев делал много шума, выводил Обломова из неподвижности и скуки. Он кричал, спорил и составлял род какого-то спектакля, избавляя ленивого барина самого от необходимости говорить и делать. В комнату, где царствовал сон и покой, Тарантьев приносил жизнь, движение, а иногда и вести извне. Обломов мог слушать, смотреть, не шевеля пальцем, на что-то бойкое, движущееся и говорящее перед ним. Кроме того, он еще имел простодушие верить, что Тарантьев в самом деле способен посоветовать ему что-нибудь путное.
Посещения Алексеева Обломов терпел по другой, не менее важной причине. Если он хотел жить по-своему, то есть лежать молча, дремать или ходить по комнате, Алексеева как будто не было тут: он тоже молчал, дремал или смотрел в книгу, разглядывал с ленивой зевотой до слез картинки и вещицы. Он мог так пробыть хоть трои сутки. Если же Обломову наскучивало быть одному и он чувствовал потребность выразиться, говорить, читать, рассуждать, проявить волнение, - тут был всегда покорный и готовый слушатель и участник, разделявший одинаково согласно и его молчание, и его разговор, и волнение, и образ мыслей, каков бы он ни был.
Другие гости заходили нечасто, на минуту, как первые три гостя; с ними со всеми все более и более порывались живые связи. Обломов иногда интересовался какой-нибудь новостью, пятиминутным разговором, потом, удовлетворенный этим, молчал. Им надо было платить взаимностью, принимать участие в том, что их интересовало. Они купались в людской толпе; всякий понимал жизнь по-своему, как не хотел понимать ее Обломов, а они путали в нее и его; все это не нравилось ему, отталкивало его, было ему не по душе.
Был ему по сердцу один человек: тот тоже не давал ему покоя; он любил и новости, и свет, и науку, и всю жизнь, но как-то глубже, искреннее - и Обломов хотя был ласков со всеми, но любил искренно его одного, верил ему одному, может быть потому, что рос, учился и жил с ним вместе. Это Андрей Иванович Штольц.
Он был в отлучке, но Обломов ждал его с часу на час.