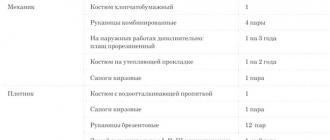Замятин рассказ мы. Мы - замятин евгений
Тысячу лет назад весь земной шар покорился власти Единого Государства. Сегодня в Государственной Газете написали, что через 120 дней заканчивается постройка «Интеграла», который должен проинтегрировать вселенную и принести существам на далёких планетах математически-безошибочное счастье, а ещё сочинения поэтов о красоте Единого Государства.
Линия Единого Государства – великая, божественная прямая. Д-503 – строитель «Интеграла», один из математиков Единого Государства, пытается записать в этих конспектах то, что думаем «мы» - счастливые жители Единого Государства.
Запись 2-я
К Д пришла О-90, круглая и розовая. Они потратили послеобеденный личный час на дополнительную прогулку. Нумера гуляют рядами по 4 под Марш Единого Государства, исполняемый Музыкальным Заводом. На прогулке Д встретил с женский нумер I-330. У неё белые острые зубы, она тонкая, резкая, гибкая, как хлыст.
Запись 3-я
Д объясняет для читателя ключевые понятия цивилизации: Часовая Скрижаль, Личные Часы, Материнская Норма, Зелёная Стена, Благодетель. Никто со времён Двухсотлетней войны не был за стеклянной Зелёной Стеной, отделившей город от леса. Дороги между городами разрушены.
Часовая Скрижаль – это подобие иконы, сердце и пульс Единого Государства. Все жители города действуют одновременно: миллионы встают, начинают и кончают работу, идут в аудиториумы и ложатся. Два раза в день, с 16 до 17 и с 21 до 22, у нумеров личные часы. Они могут отправиться на прогулку, опустить шторы или провести время за письменным столом.
Жизнью управляет система научной этики, основанная на математических вычислениях. Если же изредка в системе случаются сбои, есть опытный глаз и тяжёлая рука Хранителей.
Запись 4-я
Д получил наряд в аудиториум 112. Фонолектор вспомнил музыкантов прошлого, которые доводили себя до припадков вдохновения. Пример древней музыки исполнила на рояле в древней одежде I. Сегодня любой может написать музыку, основанную на математических закономерностях и формулах.
В 21 час пришла О с розовым талоном.
Запись 5-я
Д излагает основы существования своего мира. В Двухсотлетней войне между городом и деревней Государство победило голод. Хлеб остался только как поэтизм, его формула неизвестна.
В 35-м году до освоения Единого Государства была изобретена нефтяная пища. Выжило только 0,2 % населения. Потом была побеждена любовь. 300 лет назад возникла формула: каждый нумер имеет право на секс с любым нумером. Нужно только сделать заявление, что в сексуальные дни нумер желает пользоваться определённым нумером, и получить розовую талонную книжку. Любовь стала приятно-полезной функцией организма.
Запись 6-я
В личный час Д позвонила I, они вместе отправились в Древний Дом. Д потрясён хаосом старинной квартиры. Он проводит аналогию между непрозрачными квартирами прошло и человеческой непрозрачной головой с глазами-окнами. I переоделась в старинную одежду: короткое жёлтое платье, чёрные чулки и шляпу. Д замечает, что через час должен быть уже в аудиториуме. I предлагает ему взять справку в Медицинском Бюро у знакомого ей врача, что Д был болен. Д должен заявить об этом в Бюро Хранителей.
Запись 7-я
Д приснился сон: обстановка Древнего Дома, медный Будда открыл глаза, из всех предметов сочится сок. Д проснулся в уверенности, что он болен.
В подземной дороге по пути к «Интегралу» Д встретил двоякоизогнутого, с глазами-буравчиками S-4711. Он чуть не рассказал ему обо всём, случившемся в Древнем Доме. В газете Д прочитал, что обнаружены следы организации, желающей освободиться от благостного ига Государства.
Вместо того чтобы пойти в Бюро Хранителей, Д пошёл в Медицинское Бюро. Вечером Д с О решали задачи.
Запись 8-я
Д вспомнил, как в детстве плакал, узнав об иррациональных числах. Он решил вырвать из себя иррациональный корень и пошёл в Бюро Хранителей, чтобы совершить подвиг, предать на алтарь Единого Государства близких и себя. По дороге Д встретил О и R-13, у которого были негритянские брызжущие губы и затылок, похожий на чемоданчик. Хотя у О был талон к R, но, по его словам, им хватит полчаса, поэтому они втроём пошли к R, поговорили о том, что пишут поэты для «Интеграла». Для Д их треугольник – семья, счастливейшее среднее арифметическое.
Запись 9-я
В светлый торжественный день на площади Куба на 66 концентрических кругах трибун собраны дети, женщины и мужчины. Это похоже на богослужение древних, торжественная литургия Единому Государству, победа всех над одним.
Преступник, написавший кощунственные стихи о Благодетеле, стоял у подножья ступеней куба с перевязанными символически красной лентой руками. Наверху куба Машина. По знаку руки Благодетеля Государственный поэт прочитал стихи. Вторым поэтом оказался R-13.
По знаку Благодетеля преступник поднялся к Машине. Благодетель нажал на рычаг – преступник упал под ударом сотен тысяч вольт. Тело его превратилось в чистую воду, произошла диссоциация материи, расщепление атомов.
Запись 10-я
В вестибюле контролёрша Ю, пожилая женщина, записывающая нумера входящих, сообщила Д, что ему письмо, которое она после прочтения (так положено) отдала жильцу. Письмо извещало, что на Д записался нумер І-330. Д решил послать О копию извещения.
Была белая ночь. Без четверти 21 Д явился к I. Она сообщила, что Д в её власти, так как не заявил о ней Хранителям в течение 48 часов. Д понял, что попался. I опустила шторы и переоделась в древнее жёлтое платье. Она курила, стряхивая пепел на розовый билетик, и пила ликёр. За никотин и ликёр положено уничтожение. I была уверена, что Д не сообщит на неё, даже будет пить с ней.
Когда Д отказался, I набрала в рот ликёр, поцеловав Д, влила в него. I рассказала, что этот яд дал ей один из её медиков. Д обнимал её в припадке ревности, почти признавшись в любви, но было уже без пяти 22.30, после этого времени выходить на улицу нельзя. Д успел добежать домой. Он спал плохо.
Запись 11-я
Д перестал верить в себя. К нему пришёл R-13. Он рассказал о своих стихах для «Интеграла»: Адам и Ева выбрали свободу без счастья, современные люди равны богу, выбирают счастье без свободы. R открыл, что О любит Д, подарил свою новую книжку. Д, ревнуя R к I, осознал, что любовь и ревность развалила их треугольник.
Запись 12-я
Д хорошо спал. Он надеялся выздороветь, мечтал о привычных ограниченных отношениях с О. Когда он ехал в подземной дороге, читая новую книгу друга, сонет о влюблённых цифрах таблицы умножения, он заметил, что за ним следит S. Д снова вспомнил о Хранителях, похожих на ангелов. Он задумался о роли полезной поэзии и Института Государственных Поэтов в жизни Единого Государства.
Запись 13-я
В 11.45 Д забежал к себе в комнату. Вдруг позвонила I и приказала ждать её на углу через 2 минуты. Д решил встретиться с I и объяснить, что им управляет не она, а Государство. Она появилась после 12, когда Д уже опоздал на работу. Д её ненавидел.
I назвала Д забытым словом ты . Она объяснила, что любить можно только непокорное. I отвела Д в медицинское бюро, где он получил справку от знакомого врача. Они оба полетели в Древний Дом и любили друг друга без розового талона. Уже выйдя из комнаты, Д решил вернуться, но в комнате I не обнаружил.
Запись 14-я
Д взял у дежурного право на шторы: вечером должна прийти О. Войдя, О сразу поняла, что Д больше не её. Ей о многом нужно с ним поговорить. Д стал привычно целовать О, но почувствовал себя опустошённым. О заплакала и убежала. Д осознал, что I отняла у него R и О.
Запись 15-я
Д пришёл в эллинг, где строился «Интеграл». Второй Строитель, чьё лицо похоже на белую фаянсовую тарелку, рассказал, что вчера, когда Д болел, в эллинге поймали ненумерованного человека. Из пойманного хотят вытянуть информацию в Операционном под руководством самого Благодетеля с помощью Газового Колокола. Второй Строитель сообщил новость: изобрели операцию по вырезыванию фантазии. Но Д не хочется выздоравливать.
Запись 16-я
Д не может без I. Он видел её на прогулке вместе с S и доктором. I не пришла в день, когда у неё был розовый талон к Д. Он пошёл к дому I, ходил один с 16 до 17, выброшенный из стройных рядов гуляющих. Он пропустил время начала работы. Перед ним появился двоякоизогнутый S, посоветовал пойти в Медицинское Бюро и сам его туда привёл. Тончайший доктор объявил Д, что у того образовалась душа, а это неизлечимо. Доктор выписал удостоверение о болезни на 2 дня и посоветовал прогуляться завтра к Древнему Дому.
Запись 17-я
В Древнем Доме Д не нашёл I. Спасаясь от S, Д спрятался в шкафу, и вдруг пол под ногами качнулся. Д, на секунду потеряв сознание, долго летел вниз, потом шёл по освещённому лампочками коридору минут 20. Железную дверь ему открыл доктор. Он позвал I. Д рассказал, что у него неизлечимая душа. I вывела Д во двор Древнего дома и назначила свидание послезавтра в 10.
Запись 18-я
Д приснился сон, что он соединяется с I, одетой в розовое платье, за зеркальной дверью своего шкафа. Д проснулся до звонка и попытался математически постичь, что такое душа, почему это болезнь.
Днём Д два часа в одиночестве гулял по пустым проспектам, выполняя предписание врача. На закате Ю передала ему письмо от О, которая признавалась Д в любви, Она поняла, что ему никто не нужен, кроме I, поэтому решила снять свою запись с Д.
Запись 19-я
Д гордится тем, что сегодня впервые вхолостую запустили двигатель «Интеграла». Во время испытания погибли несколько нумеров, но работа не прекратилась ни на секунду, ведь отдельные нумера так незначительны.
Вместо I к Д пришёл незнакомый мужской нумер и передал ему письмо с розовым талоном, в котором I просила, чтобы в положенное время Д опустил шторы и сделал вид, что I у него.
На лекции по детоводству показывали живого младенца, который случайно сдвинулся к краю стола. Тогда О подхватила его, поцеловала и подвинула к середине стола.
По дороге домой Д заметил, что за ним идёт S. Дома его ждала О, которая попросила Д оставить ей ребёнка. За это положена казнь в Машине Благодетеля, но О готова пойти на жертву.
Д отнёс розовый талон I дежурной и грубо соединился с О.
Запись 20-я
Д готов к смерти в Машине. Если О в Операционной назовёт его имя, он будет убит. Единое Государство совершит божественное правосудие, если убьёт противозаконную мать О.
Запись 21-я
Вчера, в свой день, I снова не пришла, и Д за закрытыми шторами писал свои конспекты. Он полетел в Древний Дом. Д не нашёл в доме I.
Его встретил S, который посоветовал быть осторожным: над Стеной было 10-12 аэро Хранителей.
Вечером пришла пожилая Ю со щеками, похожими на жабры. Она пожаловалась, что на Детско-воспитательном заводе дети изобразили карикатуру на неё в рыбьем виде. Ю собралась записаться на Д. Он понимает, что это честь для него.
Ночью Д приснилось, что он совокупляется со стулом.
Запись 22-я
Во время прогулки, когда все шли рядами по четверо, как на ассирийских памятниках, навстречу попалось трое преступников под стражей. Один из троих, юноша, остановился, заметив кого-то в стройных рядах. Охранник всё бил по нему электрическим хлыстом, а он взвизгивал. От стройных рядов отделилась фигура женщины, которую Д принял за I и побежал к ней. Когда он обнаружил свою ошибку, его уже схватили. S засвидетельствовал, что Д болен, и того отпустили.
Запись 23-я
Д счастлив, что пришла I. Она любит Д ещё больше за вчерашнюю глупость, но не приходила, чтобы испытать его. Д хочется рассказать ей обо всём, включая детские годы, о том, что он дал О ребёнка. I надеется, что Д не забудет её, не побоится идти за ней повсюду, куда бы она его ни повела.
Запись 24-я
День Единогласия – день ежегодных выборов Благодетеля, за которого голосуют единогласно, подобно древней единой церкви, а если бы какие-нибудь нумера ошиблись, то Хранители спасут нумера от заблуждений, а единое Государство – от этих нумеров.
Д хотел бы быть на празднике с I, но она отказывается.
Запись 25-я
В начале праздника все запели гимн. С неба спустился новый Иегова на аэро, сел в центре концентрических кругов трибун в белых одеждах. Благодетель - как мудрый паук, связавший всех паутиной счастья.
Д заметил, что на трибунах множество подающих друг другу знаков Хранителей. Охваченный ревностью, он увидел I рядом с R.
Все проголосовали за, и только I – против. Поднялась суматоха. Д увидел далеко внизу О, которая загораживала руками живот, красного R, который нёс I в кровавой разорванной тунике. Д догнал R, закричал, что он не позволит нести I, ударил R по голове. R отдал I Д.
Запись 26-я
Утром Д был удивлён, что привычный мир всё ещё существует. В Единой Государственной Газете было написано, что Благодетель избран в 48-ой раз единогласно, а враги счастья не смогли омрачить торжество.
Когда Д шёл по проспекту, он увидел на стене наклеенный листок «Мефи», который безуспешно пытался сорвать S, но ему не хватало роста. Д помог ему. Он встречал эти листки и в подземке, и под куполом эллинга.
Запись 27-я
Д и I договорились встретиться в 16 часов у той самой непрозрачной двери. I провела его за Зелёную Стену. На поляне Д увидел заросших короткой шерстью людей. У самок были открыты лица и грудь, у самцов – только лица. I сказала собравшимся, что «Интеграл» полетит к звёздам вместе с её единомышленниками, потому что с ними строитель «Интеграла».
Потом всё собрание пило что-то из деревянной чаши. На миг Д показалось, что он видит S, и он сказал об этом I. Но I возразила, что люди за стеной не знают о существовании этого мира.
Запись 28-я
К Д пришли вместе Ю и I. Ю решила, что её долг – охранять Д, как ребёнка, потому что I преследует свои корыстные цели. Д выгнал Ю.
I рассказала, что в аудиториумах готовят зачем-то медицинские столы. Она открыла герою тайну его волосатых рук: женщины из города иногда любили людей из леса. Это люди, которые выжили после Двухсотлетней войны. Они обросли шерстью, но сохранили горячую кровь. А горожане обросли цифрами, которые ползают по ним, как вши.
Прибежал тот, кто приносил Д записки от I, и сказал, что сюда идут Хранители, с ними S. Д спрятал опасные последние листы рукописи под себя. S прочитал неопасные листы.
Запись 29-я
Наступила осень и принесла из-за стены тонкие невидимые нити. Д шёл на свидание с I мимо Зелёной Стены и встретил О, которая вся округлилась. Она сказала, что счастлива, полна до краёв. Д напомнил, что после рождения ребёнка её ждёт смерть. Он пожалел О и предложил вместе пойти к I, чтобы спасти её. Но О предпочла смерть.
Запись 30-я
На свидании I сообщила, что послезавтра назначен первый пробный полёт «Интеграла», во время которого Мефи захватят его. Для этого I предлагала в 12, когда все пойдут обедать, запереть всех в столовой. «Интеграл» станет оружием в руках Мефи.
Запись 31-я
Утром Д с радостью прочитал в Государственной Газете, что Государство навсегда готово сделать людей совершенными, избавив их от фантазии. Оказывается, центр фантазии – мозговой узелок, который легко удалить. Это сделает человека машиноравным, стопроцентно счастливым. Великая Операция будет проводиться в аудиториумах.
Д позвонил I, поделился своей радостью. Трубка долго молчала, затем I назначила Д встречу после 16. На улице сквозь прозрачные стены аудиториума нумера следили за Операцией. Д понял, что до Операции должен увидеть I.
В эллинге Второй Строитель сказал, что из-за Операции пробный полёт отменили до послезавтра. Д рад, что ему не придётся предавать «Интеграл».
Дома Д застал Ю, ожидающую за его письменным столом. Она рассказала, как всех своих учеников повела на операцию, как их пришлось связать. Ю уверена, что любовь должна быть беспощадной.
В 16 Д пришёл к I. I предложила выбор: операция и стопроцентное счастье или она. Д выбрал I, которая договорилась о встрече в 12 послезавтра. Д понял, что не хочет счастья.
Запись 32-я
На проспекте толпа первых оперированных, растянувшись цепью, загоняла людей в аудиториумы. Некоторые, и среди них Д, убежали. В каком-то подъезде Д догнала О. Она согласна, чтобы Д отвёл её к I, она не хочет чтобы её вылечили, ведь тогда она не сможет любить ребёнка, ей нечем будет жить. По дороге к I за ними увязался S, он следил за Д. Д привёл О к себе, написал записку I и отправил к ней О.
Запись 33-я
Д прочитал в Газете, что завтра будут приостановлены все работы, чтобы все нумера явились для Операции. Те, кто не явится, попадут в Машину Благодетеля.
Запись 34-я
«Интеграл» был готов к испытанию. Он поднялся в воздух, вышел из земной атмосферы. В радиотелефонной Д нашёл I и ещё двоих. I рассказала, что помогла О выйти за стену, О будет жить.
В 12 часов все должны были отправиться на обед в кают-компанию. Но один нумер, которого Д считал тоже Мефи, оказался Хранителем. Он помешал революции, чтобы довести испытание до конца. I уверена, что их предал Д. Д понял, что это Ю в его комнате, пока ждала его, прочитала страницы конспекта.
Тогда Д отдал приказ остановить двигатели и прервать испытание. Но Второй Строитель толкнул Д и взял бразды правления в свои руки.
Запись 35-я
Д решил убить Ю, чтобы I ему поверила. Он спустился вниз, но Ю не было, потому что был день операции. Д хотел поехать на подземке в школу, где Ю работала, но поезда не ходили. В подземке Д услышал голос I. Началась облава, но Д убежал домой.
Ю пришла к нему сама. Чтобы сосед не видел убийства, Д опустил шторы. Ю думала, что Д хочет соединиться с ней, сняла юнифу. Д рассмеялся. Этот смех, мощное оружие, убил Ю.
В этот момент позвонил Благодетель и немедленно позвал Д.
Запись 36-я
Благодетель уверял наивного 32-летнего Д, что он нужен был Мефи только как строитель «Интеграла», призывал его открыть имена заговорщиков.
Когда Д осмелился поднять глаза от чугунных рук Благодетеля, он увидел перед собой человека с капельками пота на лысине. Д со смехом убежал. Он прибежал к Машине Благодетеля, представлял, как на неё восходит I. Д впервые пожалел, что у него нет матери.
Запись 37-я
Во время завтрака в столовой послышался какой-то грохот. Все беспорядочно повскакивали с мест. Оказалось, что Стену взорвали. Множество сторонников Мефи двинулось вслед за прооперированными к месту взрыва.
В доме I не работал лифт. Д вбежал в её комнату. Всё было вверх дном, на полу валялись розовые талоны. Д не дождался I и в сумерках вернулся домой.
Запись 38-я
Д проснулся и увидел в своей комнате I. Она опустила шторы, сказав, что у неё 15 минут, её ждут внизу. Д рассказал ей о разговоре с Благодетелем и спросил, за этим ли она приходила.
Запись 39-я
Звонка в этот день не было. На улицах были птицы, толпы людей, Д нашёл труп R, но просто перешагнул через него. Д вошёл в Бюро Хранителей и рассказал S всё, что описал в своих конспектах. S заметил, что Д не сказал ему, что видел за стеной мельком S.
Д стало ясно, что S тоже из них. Д убежал и оказался в одной из общественных уборных подземки. Сосед слева рассказал ему о своих вычислениях: бесконечности нет. У Д возник вопрос: что там, где кончается конечная вселенная?
Запись 40-я
Д чувствует себя здоровым. Он улыбается. В тот вечер Д, его соседа и всех, кто был с ними, подвергли Великой Операции. На другой день Д рассказал Благодетелю всё, что знал о врагах счастья. Вечером того же дня Д сидел с Благодетелем в Газовой комнате. Он наблюдал, как женщину ввели под Газовый Колокол и трижды откачали воздух, но она молчала, а другие стали говорить. На следующий день их должна убить Машина Благодетеля.
Д уверен, что нумера победят, потому что разум должен победить.
Текущая страница: 1 (всего у книги 13 страниц)
Евгений Замятин
Мы
Запись 1‑я
Конспект:
Объявление. Мудрейшая из линий. Поэма
Я просто списываю – слово в слово – то, что сегодня напечатано в Государственной Газете:
«Через 120 дней заканчивается постройка ИНТЕГРАЛА. Близок великий, исторический час, когда первый ИНТЕГРАЛ взовьется в мировое пространство. Тысячу лет тому назад ваши героические предки покорили власти Единого Государства весь земной шар. Вам предстоит еще более славный подвиг: стеклянным, электрическим, огнедышащим ИНТЕГРАЛОМ проинтегрировать бесконечное уравнение Вселенной. Вам предстоит благодетельному игу разума подчинить неведомые существа, обитающие на иных планетах – быть может, еще в диком состоянии свободы. Если они не поймут, что мы несем им математически безошибочное счастье, наш долг заставить их быть счастливыми. Но прежде оружия мы испытаем слово.
От имени Благодетеля объявляется всем нумерам Единого Государства:
Всякий, кто чувствует себя в силах, обязан составлять трактаты, поэмы, манифесты, оды или иные сочинения о красоте и величии Единого Государства.
Это будет первый груз, который понесет ИНТЕГРАЛ.
Да здравствует Единое Государство, да здравствуют нумера, да здравствует Благодетель!»
Я пишу это и чувствую: у меня горят щеки. Да: проинтегрировать грандиозное вселенское уравнение. Да: разогнать дикую кривую, выпрямить ее по касательной – асимптоте – по прямой. Потому что линия Единого Государства – это прямая. Великая, божественная, точная, мудрая прямая – мудрейшая из линий…
Я, Д-503, строитель «Интеграла», – я только один из математиков Единого Государства. Мое привычное к цифрам перо не в силах создать музыки ассонансов и рифм. Я лишь попытаюсь записать то, что вижу, что думаю – точнее, что мы думаем (именно так: мы, и пусть это «МЫ» будет заглавием моих записей). Но ведь это будет производная от нашей жизни, от математически совершенной жизни Единого Государства, а если так, то разве это не будет само по себе, помимо моей воли, поэмой? Будет – верю и знаю.
Я пишу это и чувствую: у меня горят щеки. Вероятно, это похоже на то, что испытывает женщина, когда впервые услышит в себе пульс нового, еще крошечного, слепого человечка. Это я и одновременно не я. И долгие месяцы надо будет питать его своим соком, своей кровью, а потом – с болью оторвать его от себя и положить к ногам Единого Государства.
Но я готов, так же как каждый, или почти каждый, из нас. Я готов.
Запись 2‑я
Конспект:
Балет. Квадратная гармония. Икс
Весна. Из-за Зеленой Стены, с диких невидимых равнин, ветер несет желтую медовую пыль каких-то цветов. От этой сладкой пыли сохнут губы – ежеминутно проводишь по ним языком – и, должно быть, сладкие губы у всех встречных женщин (и мужчин тоже, конечно). Это несколько мешает логически мыслить.
Но зато небо! Синее, не испорченное ни единым облаком (до чего были дики вкусы у древних, если их поэтов могли вдохновлять эти нелепые, безалаберные, глупотолкущиеся кучи пара). Я люблю – уверен, не ошибусь, если скажу: мы любим только такое вот, стерильное, безукоризненное небо. В такие дни весь мир отлит из того же самого незыблемого, вечного стекла, как и Зеленая Стена, как и все наши постройки. В такие дни видишь самую синюю глубь вещей, какие-то неведомые дотоле, изумительные их уравнения – видишь в чем-нибудь таком самом привычном, ежедневном.
Ну, вот хоть бы это. Нынче утром был я на эллинге, где строится «Интеграл», и вдруг увидел станки: с закрытыми глазами, самозабвенно, кружились шары регуляторов; мотыли, сверкая, сгибались вправо и влево; гордо покачивал плечами балансир; в такт неслышной музыке приседало долото долбежного станка. Я вдруг увидел всю красоту этого грандиозного машинного балета, залитого легким голубым солнцем.
И дальше сам с собою: почему красиво? Почему танец красив? Ответ: потому что это несвободное движение, потому что весь глубокий смысл танца именно в абсолютной, эстетической подчиненности, идеальной несвободе. И если верно, что наши предки отдавались танцу в самые вдохновенные моменты своей жизни (религиозные мистерии, военные парады), то это значит только одно: инстинкт несвободы издревле органически присущ человеку, и мы в теперешней нашей жизни – только сознательно…
Кончить придется после: щелкнул нумератор. Я подымаю глаза: О-90, конечно. И через полминуты она сама будет здесь: за мной на прогулку.
Милая О! – мне всегда это казалось – что она похожа на свое имя: сантиметров на 10 ниже Материнской Нормы – и оттого вся кругло обточенная, и розовое О – рот – раскрыт навстречу каждому моему слову. И еще: круглая, пухлая складочка на запястье руки – такие бывают у детей.
Когда она вошла, еще вовсю во мне гудел логический маховик, и я по инерции заговорил о только что установленной мною формуле, куда входили и мы все, и машины, и танец.
– Чудесно. Не правда ли? – спросил я.
– Да, чудесно. Весна, – розово улыбнулась мне О-90.
Ну вот, не угодно ли: весна… Она – о весне. Женщины… Я замолчал.
Внизу. Проспект полон: в такую погоду послеобеденный личный час мы обычно тратим на дополнительную прогулку. Как всегда, Музыкальный Завод всеми своими трубами пел Марш Единого Государства. Мерными рядами, по четыре, восторженно отбивая такт, шли нумера – сотни, тысячи нумеров, в голубоватых юнифах,1
Вероятно, от древнего «Uniforme». – Здесь и далее в романе «Мы» примеч. автора
.
С золотыми бляхами на груди – государственный нумер каждого и каждой. И я – мы, четверо, – одна из бесчисленных волн в этом могучем потоке. Слева от меня О-90 (если бы это писал один из моих волосатых предков лет тысячу назад, он, вероятно, назвал бы ее этим смешным словом «моя»); справа – два каких-то незнакомых нумера, женский и мужской.
Блаженно-синее небо, крошечные детские солнца в каждой из блях, не омраченные безумием мыслей лица… Лучи – понимаете: все из какой-то единой, лучистой, улыбающейся материи. А медные такты: «Тра-та-та-там. Тра-та-та-там», эти сверкающие на солнце медные ступени, и с каждой ступенью – вы поднимаетесь все выше, в головокружительную синеву…
И вот, так же как это было утром, на эллинге, я опять увидел, будто только вот сейчас первый раз в жизни, увидел все: непреложные прямые улицы, брызжущее лучами стекло мостовых, божественные параллелепипеды прозрачных жилищ, квадратную гармонию серо-голубых шеренг. И так: будто не целые поколения, а я – именно я – победил старого Бога и старую жизнь, именно я создал все это, и я как башня, я боюсь двинуть локтем, чтобы не посыпались осколки стен, куполов, машин…
А затем мгновение – прыжок через века, с + на –. Мне вспомнилась (очевидно, ассоциация по контрасту) – мне вдруг вспомнилась картина в музее: их, тогдашний, двадцатых веков, проспект, оглушительно пестрая, путаная толчея людей, колес, животных, афиш, деревьев, красок, птиц… И ведь, говорят, это на самом деле было – это могло быть. Мне показалось это так неправдоподобно, так нелепо, что я не выдержал и расхохотался вдруг.
И тотчас же эхо – смех – справа. Обернулся: в глаза мне – белые – необычайно белые и острые зубы, незнакомое женское лицо.
– Простите, – сказала она, – но вы так вдохновенно все озирали, как некий мифический бог в седьмой день творения. Мне кажется, вы уверены, что и меня сотворили вы, а не кто иной. Мне очень лестно…
Все это без улыбки, я бы даже сказал, с некоторой почтительностью (может быть, ей известно, что я – строитель «Интеграла»). Но не знаю – в глазах или бровях – какой-то странный раздражающий икс, и я никак не могу его поймать, дать ему цифровое выражение.
Я почему-то смутился и, слегка путаясь, стал логически мотивировать свой смех. Совершенно ясно, что этот контраст, эта непроходимая пропасть между сегодняшним и тогдашним…
– Но почему же непроходимая? (Какие белые зубы!) Через пропасть можно перекинуть мостик. Вы только представьте себе: барабан, батальоны, шеренги – ведь это тоже было – и следовательно…
– Ну да: ясно! – крикнула (это было поразительное пересечение мыслей: она – почти моими же словами – то, что я записывал перед прогулкой). – Понимаете: даже мысли. Это потому, что никто не «один», но «один из». Мы так одинаковы…
– Вы уверены?
Я увидел острым углом вздернутые к вискам брови – как острые рожки икса, опять почему-то сбился; взглянул направо, налево – и…
Направо от меня – она, тонкая, резкая, упрямо-гибкая, как хлыст, I-330 (вижу теперь ее нумер); налево – О, совсем другая, вся из окружностей, с детской складочкой на руке; и с краю нашей четверки – неизвестный мне мужской нумер – какой-то дважды изогнутый вроде буквы S. Мы все были разные…
Эта, справа, I-330, перехватила, по-видимому, мой растерянный взгляд – и со вздохом:
– Да… Увы!
В сущности, это «увы» было совершенно уместно. Но опять что-то такое на лице у ней или в голосе…
Я с необычайной для меня резкостью сказал:
– Ничего не увы. Наука растет, и ясно – если не сейчас, так через пятьдесят, сто лет…
– Даже носы у всех…
– Да, носы, – я уже почти кричал. – Раз есть – все равно какое основание для зависти… Раз у меня нос «пуговицей», а у другого…
– Ну, нос-то у вас, пожалуй, даже и «классический», как в старину говорили. А вот руки… Нет, покажите-ка, покажите-ка руки!
Терпеть не могу, когда смотрят на мои руки: все в волосах, лохматые – какой-то нелепый атавизм. Я протянул руку и – по возможности посторонним голосом – сказал:
– Обезьяньи.
Она взглянула на руки, потом на лицо:
– Да это прелюбопытный аккорд, – она прикидывала меня глазами, как на весах, мелькнули опять рожки в углах бровей.
– Он записан на меня, – радостно-розово открыла рот О-90.
Уж лучше бы молчала – это было совершенно ни к чему. Вообще эта милая О… как бы сказать… у ней неправильно рассчитана скорость языка, секундная скорость языка должна быть всегда немного меньше секундной скорости мысли, а уже никак не наоборот.
В конце проспекта, на аккумуляторной башне, колокол гулко бил 17. Личный час кончился. I-330 уходила вместе с тем S-образным мужским нумером. У него такое внушающее почтение и, теперь вижу, как будто даже знакомое лицо. Где-нибудь встречал его – сейчас не вспомню.
На прощание I – все так же иксово – усмехнулась мне.
– Загляните послезавтра в аудиториум 112.
Я пожал плечами:
– Если у меня будет наряд именно на тот аудиториум, какой вы назвали…
Она с какой-то непонятной уверенностью:
На меня эта женщина действовала так же неприятно, как случайно затесавшийся в уравнение неразложимый иррациональный член. И я был рад остаться хоть ненадолго вдвоем с милой О.
Об руку с ней мы прошли четыре линии проспектов. На углу ей было направо, мне – налево.
– Я бы так хотела сегодня прийти к вам, опустить шторы. Именно сегодня, сейчас… – робко подняла на меня О круглые, сине-хрустальные глаза.
Смешная. Ну что я мог ей сказать? Она была у меня только вчера и не хуже меня знает, что наш ближайший сексуальный день послезавтра. Это просто все то же самое ее «опережение мысли» – как бывает (иногда вредное) опережение подачи искры в двигателе.
При расставании я два… нет, буду точен, три раза поцеловал чудесные, синие, не испорченные ни одним облачком, глаза.
Запись 3‑я
Конспект:
Пиджак. Стена. Скрижаль
Просмотрел все написанное вчера – и вижу: я писал недостаточно ясно. То есть все это совершенно ясно для любого из нас. Но как знать: быть может, вы, неведомые, кому «Интеграл» принесет мои записки, может быть, вы великую книгу цивилизации дочитали лишь до той страницы, что и наши предки лет 900 назад. Быть может, вы не знаете даже таких азов, как Часовая Скрижаль, Личные Часы, Материнская Норма, Зеленая Стена, Благодетель. Мне смешно и в то же время очень трудно говорить обо всем этом. Это все равно как если бы писателю какого-нибудь, скажем, 20‑го века в своем романе пришлось объяснять, что такое «пиджак», «квартира», «жена». А впрочем, если его роман переведен для дикарей, разве мыслимо обойтись без примечаний насчет «пиджака»?
Я уверен, дикарь глядел на «пиджак» и думал: «Ну к чему это? Только обуза». Мне кажется, точь-в‑точь так же будете глядеть и вы, когда я скажу вам, что никто из нас со времен Двухсотлетней Войны не был за Зеленой Стеною.
Но, дорогие, надо же сколько-нибудь думать, это очень помогает. Ведь ясно: вся человеческая история, сколько мы ее знаем, это история перехода от кочевых форм ко все более оседлым. Разве не следует отсюда, что наиболее оседлая форма жизни (наша) есть вместе с тем и наиболее совершенная (наша). Если люди метались по земле из конца в конец, так это только во времена доисторические, когда были нации, войны, торговли, открытия разных америк. Но зачем, кому это теперь нужно?
Я допускаю: привычка к этой оседлости получилась не без труда и не сразу. Когда во время Двухсотлетней Войны все дороги разрушились и заросли травой – первое время, должно быть, казалось очень неудобно жить в городах, отрезанных один от другого зелеными дебрями. Но что же из этого? После того как у человека отвалился хвост, он, вероятно, тоже не сразу научился сгонять мух без помощи хвоста. Он первое время, несомненно, тосковал без хвоста. Но теперь – можете вы себе вообразить, что у вас хвост? Или: можете вы себя вообразить на улице голым, без «пиджака» (возможно, что вы еще разгуливаете в «пиджаках»). Вот так же и тут: я не могу себе представить город, не одетый Зеленой Стеною, не могу представить жизнь, не облеченную в цифровые ризы Скрижали.
Скрижаль… Вот сейчас со стены у меня в комнате сурово и нежно в глаза мне глядят ее пурпурные на золотом поле цифры. Невольно вспоминается то, что у древних называлось «иконой», и мне хочется слагать стихи или молитвы (что одно и то же. Ах, зачем я не поэт, чтобы достойно воспеть тебя, о Скрижаль, о сердце и пульс Единого Государства.
Все мы (а может быть, и вы) еще детьми, в школе, читали этот величайший из дошедших до нас памятников древней литературы – «Расписание железных дорог». Но поставьте даже его рядом со Скрижалью – и вы увидите рядом графит и алмаз: в обоих одно и то же – С, углерод, – но как вечен, прозрачен, как сияет алмаз. У кого не захватывает духа, когда вы с грохотом мчитесь по страницам «Расписания». Но Часовая Скрижаль каждого из нас наяву превращает в стального шестиколесного героя великой поэмы. Каждое утро, с шестиколесной точностью, в один и тот же час и в одну и ту же минуту мы, миллионы, встаем как один. В один и тот же час единомиллионно начинаем работу – единомиллионно кончаем. И, сливаясь в единое, миллионнорукое тело, в одну и ту же, назначенную Скрижалью, секунду, мы подносим ложки ко рту и в одну и ту же секунду выходим на прогулку и идем в аудиториум, в зал Тэйлоровских экзерсисов, отходим ко сну…
Буду вполне откровенен: абсолютно точного решения задачи счастья нет еще и у нас: два раза в день – от 16 до 17 и от 21 до 22 единый мощный организм рассыпается на отдельные клетки: это установленные Скрижалью Личные Часы. В эти часы вы увидите: в комнате у одних целомудренно спущены шторы, другие мерно по медным ступеням Марша проходят проспектом, третьи – как я сейчас – за письменным столом. Но я твердо верю – пусть назовут меня идеалистом и фантазером – я верю: раньше или позже, но когда-нибудь и для этих часов мы найдем место в общей формуле, когда-нибудь все 86 400 секунд войдут в Часовую Скрижаль.
Много невероятного мне приходилось читать и слышать о тех временах, когда люди жили еще в свободном, то есть неорганизованном, диком состоянии. Но самым невероятным мне всегда казалось именно это: как тогдашняя – пусть даже зачаточная – государственная власть могла допустить, что люди жили без всякого подобия нашей Скрижали, без обязательных прогулок, без точного урегулирования сроков еды, вставали и ложились спать когда им взбредет в голову; некоторые историки говорят даже, будто в те времена на улицах всю ночь горели огни, всю ночь по улицам ходили и ездили.
Вот этого я никак не могу осмыслить. Ведь как бы ни был ограничен их разум, но все-таки должны же они были понимать, что такая жизнь была самым настоящим поголовным убийством – только медленным, изо дня в день. Государство (гуманность) запрещало убить насмерть одного и не запрещало убивать миллионы наполовину. Убить одного, то есть уменьшить сумму человеческих жизней на 50 лет, – это преступно, а уменьшить сумму человеческих жизней на 50 миллионов лет – это не преступно. Ну, разве не смешно? У нас эту математически-моральную задачу в полминуты решит любой десятилетний нумер; у них не могли – все их Канты вместе (потому что ни один из Кантов не догадался построить систему научной этики, то есть основанной на вычитании, сложении, делении, умножении).
А это разве не абсурд, что государство (оно смело называть себя государством!) могло оставить без всякого контроля сексуальную жизнь. Кто, когда и сколько хотел… Совершенно ненаучно, как звери. И как звери, вслепую, рожали детей. Не смешно ли: знать садоводство, куроводство, рыбоводство (у нас есть точные данные, что они знали все это) и не суметь дойти до последней ступени этой логической лестницы: детоводства. Не додуматься до наших Материнской и Отцовской Норм.
Так смешно, так неправдоподобно, что вот я написал и боюсь: а вдруг вы, неведомые читатели, сочтете меня за злого шутника. Вдруг подумаете, что я просто хочу поиздеваться над вами и с серьезным видом рассказываю совершеннейшую чушь.
Но первое: я не способен на шутки – во всякую шутку неявной функцией входит ложь; и второе: Единая Государственная Наука утверждает, что жизнь древних была именно такова, а Единая Государственная Наука ошибаться не может. Да и откуда тогда было бы взяться государственной логике, когда люди жили в состоянии свободы, то есть зверей, обезьян, стада. Чего можно требовать от них, если даже и в наше время откуда-то со дна, из мохнатых глубин, – еще изредка слышно дикое, обезьянье эхо.
К счастью, только изредка. К счастью, это только мелкие аварии деталей: их легко ремонтировать, не останавливая вечного, великого хода всей Машины. И для того, чтобы выкинуть вон погнувшийся болт, у нас есть искусная, тяжкая рука Благодетеля, у нас есть опытный глаз Хранителей…
Да, кстати, теперь вспомнил: этот вчерашний, дважды изогнутый, как S, – кажется, мне случалось видать его выходящим из Бюро Хранителей. Теперь понимаю, отчего у меня было это инстинктивное чувство почтения к нему и какая-то неловкость, когда эта странная I при нем… Должен сознаться, что эта I…
Звонят спать: 22.30. До завтра.
Запись 4‑я
Конспект:
Дикарь с барометром. Эпилепсия. Если бы
До сих пор мне все в жизни было ясно (недаром же у меня, кажется, некоторое пристрастие к этому самому слову «ясно»). А сегодня… Не понимаю.
Первое: я действительно получил наряд быть именно в аудиториуме 112, как она мне и говорила. Хотя вероятность была –
(1500 – это число аудиториумов, 10 000 000 – нумеров). А второе… Впрочем, лучше по порядку.
Аудиториум. Огромный, насквозь просолнечный полушар из стеклянных массивов. Циркулярные ряды благородно шарообразных, гладко остриженных голов. С легким замиранием сердца я огляделся кругом. Думаю, я искал: не блеснет ли где над голубыми волнами юниф розовый серп – милые губы О. Вот чьи-то необычайно белые и острые зубы, похоже… нет, не то. Нынче вечером, в 21, О придет ко мне – желание увидеть ее здесь было совершенно естественно.
Вот – звонок. Мы встали, спели Гимн Единого Государства – и на эстраде сверкающий золотым громкоговорителем и остроумием фонолектор.
– «Уважаемые нумера! Недавно археологи откопали одну книгу двадцатого века. В ней иронический автор рассказывает о дикаре и о барометре. Дикарь заметил: всякий раз, как барометр останавливался на „дожде“, действительно шел дождь. И так как дикарю захотелось дождя, то он повыковырял ровно столько ртути, чтобы уровень стал на „дождь“ (на экране – дикарь в перьях, выколупывающий ртуть: смех). Вы смеетесь: но не кажется ли вам, что смеха гораздо более достоин европеец той эпохи. Так же, как дикарь, европеец хотел „дождя“ – дождя с прописной буквы, дождя алгебраического. Но он стоял перед барометром мокрой курицей. У дикаря по крайней мере было больше смелости и энергии и – пусть дикой – логики: он сумел установить, что есть связь между следствием и причиной. Выковыряв ртуть, он сумел сделать первый шаг на том великом пути, по которому…»
Тут (повторяю: я пишу, ничего не утаивая) – тут я на некоторое время стал как бы непромокаемым для живительных потоков, лившихся из громкоговорителей. Мне вдруг показалось, что я пришел сюда напрасно (почему «напрасно» и как я мог не прийти, раз был дан наряд?); мне показалось – все пустое, одна скорлупа. И я с трудом включил внимание только тогда, когда фонолектор перешел уже к основной теме: к нашей музыке, к математической композиции (математик – причина, музыка – следствие), к описанию недавно изобретенного музыкометра.
– «…Просто вращая вот эту ручку, любой из вас производит до трех сонат в час. А с каким трудом давалось это вашим предкам. Они могли творить, только доведя себя до припадков „вдохновения“ – неизвестная форма эпилепсии. И вот вам забавнейшая иллюстрация того, что у них получалось, – музыка Скрябина – двадцатый век. Этот черный ящик (на эстраде раздвинули занавес и там – их древнейший инструмент) – этот ящик они называли „рояльным“ или „королевским“, что лишний раз доказывает, насколько вся их музыка…»
Она была в фантастическом костюме древней эпохи: плотно облегающее черное платье, остро подчеркнуто белое открытых плечей и груди, и эта теплая, колыхающаяся от дыхания тень между… и ослепительные, почти злые зубы…
Улыбка – укус, сюда – вниз. Села, заиграла. Дикое, судорожное, пестрое, как вся тогдашняя их жизнь, – ни тени разумной механичности. И конечно, они, кругом меня, правы: все смеются. Только немногие… но почему же и я – я?
Да, эпилепсия – душевная болезнь – боль. Медленная, сладкая боль – укус – и чтобы еще глубже, еще больнее. И вот, медленно – солнце. Не наше, не это голубовато-хрустальное и равномерное сквозь стеклянные кирпичи – нет: дикое, несущееся, опаляющее солнце – долой все с себя – все в мелкие клочья.
Сидевший рядом со мной покосился влево – на меня – и хихикнул. Почему-то очень отчетливо запомнилось: я увидел – на губах у него выскочил микроскопический слюнный пузырек и лопнул. Этот пузырек отрезвил меня. Я – снова я.
Как и все, я слышал только нелепую, суетливую трескотню струн. Я смеялся. Стало легко и просто. Талантливый фонолектор слишком живо изобразил нам эту дикую эпоху – вот и все.
С каким наслаждением я слушал затем нашу теперешнюю музыку. (Она продемонстрирована была в конце для контраста.) Хрустальные хроматические ступени сходящихся и расходящихся бесконечных рядов – и суммирующие аккорды формул Тэйлора, Маклорена; целотонные, квадратногрузные ходы Пифагоровых штанов; грустные мелодии затухающе-колебательного движения; переменяющиеся фраунгоферовыми линиями пауз яркие такты – спектральный анализ планет… Какое величие! Какая незыблемая закономерность! И как жалка своевольная, ничем – кроме диких фантазий – не ограниченная музыка древних…
Как обычно, стройными рядами, по четыре, через широкие двери все выходили из аудиториума. Мимо мелькнула знакомая двоякоизогнутая фигура; я почтительно поклонился.
Через час должна прийти милая О. Я чувствовал себя приятно и полезно взволнованным. Дома – скорей в контору, сунул дежурному свой розовый билет и получил удостоверение на право штор. Это право у нас только для сексуальных дней. А так среди своих прозрачных, как бы сотканных из сверкающего воздуха, стен – мы живем всегда на виду, вечно омываемые светом. Нам нечего скрывать друг от друга. К тому же это облегчает тяжкий и высокий труд Хранителей. Иначе мало ли что могло быть. Возможно, что именно странные, непрозрачные обиталища древних породили эту их жалкую клеточную психологию. «Мой (sic!) дом – моя крепость» – ведь нужно же было додуматься!
В 21 я опустил шторы – и в ту же минуту вошла немного запыхавшаяся О. Протянула мне свой розовый ротик – и розовый билетик. Я оторвал талон и не мог оторваться от розового рта до самого последнего момента – 22.15.
Потом показал ей свои «записи» и говорил – кажется, очень хорошо – о красоте квадрата, куба, прямой. Она так очаровательно-розово слушала – и вдруг из синих глаз слеза, другая, третья – прямо на раскрытую страницу (стр. 7‑я). Чернила расплылись. Ну вот, придется переписывать.
– Милый Д, если бы только вы, если бы…
Ну что «если бы? Что «если бы? Опять ее старая песня: ребенок. Или, может быть, что-нибудь новое – относительно… относительно той? Хотя уж тут как будто… Нет, это было бы слишком нелепо.
Евгений Замятин
Запись 1‑я
Конспект:
Объявление. Мудрейшая из линий. Поэма
Я просто списываю – слово в слово – то, что сегодня напечатано в Государственной Газете:
«Через 120 дней заканчивается постройка ИНТЕГРАЛА. Близок великий, исторический час, когда первый ИНТЕГРАЛ взовьется в мировое пространство. Тысячу лет тому назад ваши героические предки покорили власти Единого Государства весь земной шар. Вам предстоит еще более славный подвиг: стеклянным, электрическим, огнедышащим ИНТЕГРАЛОМ проинтегрировать бесконечное уравнение Вселенной. Вам предстоит благодетельному игу разума подчинить неведомые существа, обитающие на иных планетах – быть может, еще в диком состоянии свободы. Если они не поймут, что мы несем им математически безошибочное счастье, наш долг заставить их быть счастливыми. Но прежде оружия мы испытаем слово.
От имени Благодетеля объявляется всем нумерам Единого Государства:
Всякий, кто чувствует себя в силах, обязан составлять трактаты, поэмы, манифесты, оды или иные сочинения о красоте и величии Единого Государства.
Это будет первый груз, который понесет ИНТЕГРАЛ.
Да здравствует Единое Государство, да здравствуют нумера, да здравствует Благодетель!»
Я пишу это и чувствую: у меня горят щеки. Да: проинтегрировать грандиозное вселенское уравнение. Да: разогнать дикую кривую, выпрямить ее по касательной – асимптоте – по прямой. Потому что линия Единого Государства – это прямая. Великая, божественная, точная, мудрая прямая – мудрейшая из линий…
Я, Д-503, строитель «Интеграла», – я только один из математиков Единого Государства. Мое привычное к цифрам перо не в силах создать музыки ассонансов и рифм. Я лишь попытаюсь записать то, что вижу, что думаю – точнее, что мы думаем (именно так: мы, и пусть это «МЫ» будет заглавием моих записей). Но ведь это будет производная от нашей жизни, от математически совершенной жизни Единого Государства, а если так, то разве это не будет само по себе, помимо моей воли, поэмой? Будет – верю и знаю.
Я пишу это и чувствую: у меня горят щеки. Вероятно, это похоже на то, что испытывает женщина, когда впервые услышит в себе пульс нового, еще крошечного, слепого человечка. Это я и одновременно не я. И долгие месяцы надо будет питать его своим соком, своей кровью, а потом – с болью оторвать его от себя и положить к ногам Единого Государства.
Но я готов, так же как каждый, или почти каждый, из нас. Я готов.
Запись 2‑я
Конспект:
Балет. Квадратная гармония. Икс
Весна. Из-за Зеленой Стены, с диких невидимых равнин, ветер несет желтую медовую пыль каких-то цветов. От этой сладкой пыли сохнут губы – ежеминутно проводишь по ним языком – и, должно быть, сладкие губы у всех встречных женщин (и мужчин тоже, конечно). Это несколько мешает логически мыслить.
Но зато небо! Синее, не испорченное ни единым облаком (до чего были дики вкусы у древних, если их поэтов могли вдохновлять эти нелепые, безалаберные, глупотолкущиеся кучи пара). Я люблю – уверен, не ошибусь, если скажу: мы любим только такое вот, стерильное, безукоризненное небо. В такие дни весь мир отлит из того же самого незыблемого, вечного стекла, как и Зеленая Стена, как и все наши постройки. В такие дни видишь самую синюю глубь вещей, какие-то неведомые дотоле, изумительные их уравнения – видишь в чем-нибудь таком самом привычном, ежедневном.
Ну, вот хоть бы это. Нынче утром был я на эллинге, где строится «Интеграл», и вдруг увидел станки: с закрытыми глазами, самозабвенно, кружились шары регуляторов; мотыли, сверкая, сгибались вправо и влево; гордо покачивал плечами балансир; в такт неслышной музыке приседало долото долбежного станка. Я вдруг увидел всю красоту этого грандиозного машинного балета, залитого легким голубым солнцем.
И дальше сам с собою: почему красиво? Почему танец красив? Ответ: потому что это несвободное движение, потому что весь глубокий смысл танца именно в абсолютной, эстетической подчиненности, идеальной несвободе. И если верно, что наши предки отдавались танцу в самые вдохновенные моменты своей жизни (религиозные мистерии, военные парады), то это значит только одно: инстинкт несвободы издревле органически присущ человеку, и мы в теперешней нашей жизни – только сознательно…
Кончить придется после: щелкнул нумератор. Я подымаю глаза: О-90, конечно. И через полминуты она сама будет здесь: за мной на прогулку.
Милая О! – мне всегда это казалось – что она похожа на свое имя: сантиметров на 10 ниже Материнской Нормы – и оттого вся кругло обточенная, и розовое О – рот – раскрыт навстречу каждому моему слову. И еще: круглая, пухлая складочка на запястье руки – такие бывают у детей.
Когда она вошла, еще вовсю во мне гудел логический маховик, и я по инерции заговорил о только что установленной мною формуле, куда входили и мы все, и машины, и танец.
– Чудесно. Не правда ли? – спросил я.
– Да, чудесно. Весна, – розово улыбнулась мне О-90.
Ну вот, не угодно ли: весна… Она – о весне. Женщины… Я замолчал.
Внизу. Проспект полон: в такую погоду послеобеденный личный час мы обычно тратим на дополнительную прогулку. Как всегда, Музыкальный Завод всеми своими трубами пел Марш Единого Государства. Мерными рядами, по четыре, восторженно отбивая такт, шли нумера – сотни, тысячи нумеров, в голубоватых юнифах, с золотыми бляхами на груди – государственный нумер каждого и каждой. И я – мы, четверо, – одна из бесчисленных волн в этом могучем потоке. Слева от меня О-90 (если бы это писал один из моих волосатых предков лет тысячу назад, он, вероятно, назвал бы ее этим смешным словом «моя»); справа – два каких-то незнакомых нумера, женский и мужской.
Блаженно-синее небо, крошечные детские солнца в каждой из блях, не омраченные безумием мыслей лица… Лучи – понимаете: все из какой-то единой, лучистой, улыбающейся материи. А медные такты: «Тра-та-та-там. Тра-та-та-там», эти сверкающие на солнце медные ступени, и с каждой ступенью – вы поднимаетесь все выше, в головокружительную синеву…
И вот, так же как это было утром, на эллинге, я опять увидел, будто только вот сейчас первый раз в жизни, увидел все: непреложные прямые улицы, брызжущее лучами стекло мостовых, божественные параллелепипеды прозрачных жилищ, квадратную гармонию серо-голубых шеренг. И так: будто не целые поколения, а я – именно я – победил старого Бога и старую жизнь, именно я создал все это, и я как башня, я боюсь двинуть локтем, чтобы не посыпались осколки стен, куполов, машин…
А затем мгновение – прыжок через века, с + на –. Мне вспомнилась (очевидно, ассоциация по контрасту) – мне вдруг вспомнилась картина в музее: их, тогдашний, двадцатых веков, проспект, оглушительно пестрая, путаная толчея людей, колес, животных, афиш, деревьев, красок, птиц… И ведь, говорят, это на самом деле было – это могло быть. Мне показалось это так неправдоподобно, так нелепо, что я не выдержал и расхохотался вдруг.
И тотчас же эхо – смех – справа. Обернулся: в глаза мне – белые – необычайно белые и острые зубы, незнакомое женское лицо.
– Простите, – сказала она, – но вы так вдохновенно все озирали, как некий мифический бог в седьмой день творения. Мне кажется, вы уверены, что и меня сотворили вы, а не кто иной. Мне очень лестно…
Все это без улыбки, я бы даже сказал, с некоторой почтительностью (может быть, ей известно, что я – строитель «Интеграла»). Но не знаю – в глазах или бровях – какой-то странный раздражающий икс, и я никак не могу его поймать, дать ему цифровое выражение.
Я почему-то смутился и, слегка путаясь, стал логически мотивировать свой смех. Совершенно ясно, что этот контраст, эта непроходимая пропасть между сегодняшним и тогдашним…
– Но почему же непроходимая? (Какие белые зубы!) Через пропасть можно перекинуть мостик. Вы только представьте себе: барабан, батальоны, шеренги – ведь это тоже было – и следовательно…
– Ну да: ясно! – крикнула (это было поразительное пересечение мыслей: она – почти моими же словами – то, что я записывал перед прогулкой). – Понимаете: даже мысли. Это потому, что никто не «один», но «один из». Мы так одинаковы…
– Вы уверены?
Я увидел острым углом вздернутые к вискам брови – как острые рожки икса, опять почему-то сбился; взглянул направо, налево – и…
Направо от меня – она, тонкая, резкая, упрямо-гибкая, как хлыст, I-330 (вижу теперь ее нумер); налево – О, совсем другая, вся из окружностей, с детской складочкой на руке; и с краю нашей четверки – неизвестный мне мужской нумер – какой-то дважды изогнутый вроде буквы S. Мы все были разные…
Эта, справа, I-330, перехватила, по-видимому, мой растерянный взгляд – и со вздохом:
– Да… Увы!
В сущности, это «увы» было совершенно уместно. Но опять что-то такое на лице у ней или в голосе…
Я с необычайной для меня резкостью сказал:
– Ничего не увы. Наука растет, и ясно – если не сейчас, так через пятьдесят, сто лет…
– Даже носы у всех…
– Да, носы, – я уже почти кричал. – Раз есть – все равно какое основание для зависти… Раз у меня нос «пуговицей», а у другого…
– Ну, нос-то у вас, пожалуй, даже и «классический», как в старину говорили. А вот руки… Нет, покажите-ка, покажите-ка руки!
Терпеть не могу, когда смотрят на мои руки: все в волосах, лохматые – какой-то нелепый атавизм. Я протянул руку и – по возможности посторонним голосом – сказал:
– Обезьяньи.
Она взглянула на руки, потом на лицо:
– Да это прелюбопытный аккорд, – она прикидывала меня глазами, как на весах, мелькнули опять рожки в углах бровей.
– Он записан на меня, – радостно-розово открыла рот О-90.
Уж лучше бы молчала – это было совершенно ни к чему. Вообще эта милая О… как бы сказать… у ней неправильно рассчитана скорость языка, секундная скорость язы...
Быстрая навигация назад: Ctrl+←, вперед Ctrl+→По решению правообладателя книга «Мы» представлена в виде фрагмента
Евгений Замятин
Запись 1-ая
Конспект:
ОБЪЯВЛЕНИЕ. МУДРЕЙШАЯ ИЗ ЛИНИЙ. ПОЭМА.
Строительство дирижабля. 1930 год Underwood Archives / Bridgeman Images / Fotodom
1. Тайна места действия
В романе Евгения Замятина ни разу не говорится прямо, на территории какой страны разворачивается сюжет произведения, — сообщается только, что после давней Двухсотлетней Войны Единое Государство, где живет главный герой Д-503, оградили Зеленой Стеною, выход за которую жителям Государства строго запрещен. Однако в «Записи 6-й» романа рассказывается, как Д-503 и его будущая возлюбленная I-330 посещают Древний Дом и там, в одной из некогда обитаемых квартир, Д-503 видит чудом сохранившийся портрет:
«С полочки на стене прямо в лицо мне чуть приметно улыбалась курносая асимметрическая физиономия какого-то из древних поэтов (кажется, Пушкина)».
В отличие от Достоевского, Толстого и Чехова, Пушкин не был известен за пре-делами России настолько, чтобы кому-нибудь пришло в голову поставить на полочку его изображение (возможно, подразумевается копия портрета Пуш-кина работы Константина Сомова 1899 года: на нем поэт улыбается и смотрит зрителю прямо в лицо). Таким образом Замятин ненавязчиво намекает внима-тельному читателю: действие его романа «Мы» разворачивается на территории бывшей (советской) России.
2. Тайна «бесконечных ассирийских рядов»
В финале «Записи 22-й» Д-503 с энтузиазмом рассказывает о том, что он чув-ствует себя встроенным в «бесконечные, ассирийские ряды» граждан Единого Государства. До этого мотив Ассирии дважды встречается в зачине той же записи:
«Мы шли так, как всегда, т. е. так, как изображены воины на ассирий-ских памятниках: тысяча голов — две слитных, интегральных ноги, две интегральных, в размахе, руки. В конце проспекта — там, где грозно гудела аккумуляторная башня, — навстречу нам четырехугольник: по бокам, впереди, сзади — стража…»
И чуть далее: «Мы по-прежнему мерно, ассирийски шли…» Для чего Замятину понадобилось акцентировать внимание читателя именно на ассирийском происхождении того «четырехугольника», которым движутся по городу граж-дане? Для того чтобы провести параллель между глубокой древностью чело-вечества и его возможным нерадужным будущим. Новоассирийская держава (750-620 годы до н. э.) считается первой империей в истории человечества. Ее власти подавляли врагов с помощью идеально организованного войска, в котором, как и в Государстве из романа Замятина, культивировалась красота геометрического единообразия. Было введено единообразное вооружение, а воины делились на так называемые кисиры (отряды). Каждый кисир насчи-тывал от 500 до 2000 человек, разбитых по пятидесяткам, в свою очередь состоявшим из десяток.
3. Тайна сексуальной привлекательности героя
Невозможно не обратить внимания на то обстоятельство, что все женщины, о которых хоть сколько-нибудь подробно рассказывается в романе (I-330, О-90 и Ю), выделяют Д-503 среди остальных мужчин, а говоря точнее, испытывают к нему эротическое влечение. В чем секрет привлекательности героя романа? В том, что он невольно выделяется из дистиллированного Единого Государства своим мужским, животным магнетизмом, материальным воплощением кото-рого в романе становятся волосатые руки Д-503. Этот мотив встречается в про-изведении Замятина трижды. В «Записи 2-й» герой характеризует свои руки как «обезьяньи» и признается:
«Терпеть не могу, когда смотрят на мои руки: все в волосах, лохматые — какой-то нелепый атавизм».
В «Записи 22-й» эта метафора прямо расшифровывается:
«Я чувствовал на себе тысячи округленных от ужаса глаз, но это только давало еще больше какой-то отчаянно-веселой силы тому дикому, воло-саторукому, что вырвался из меня, и он бежал все быстрее».
А в «Записи 28-й» Д-503 с трудом удается удержать в себе другого человека — «с трясущимися волосатыми кулаками». Чуть дальше в этой же записи особое внимание к рукам героя проявляет I-330, раскрывая секрет магнетизма Д-503. Оказывается, он потомок диких и свободных людей — людей из-за Зеленой Стены:
«Она медленно поднимала вверх, к свету, мою руку — мою волосатую руку, которую я так ненавидел. Я хотел выдернуть, но она держала крепко.
— Твоя рука… Ведь ты не знаешь — и немногие это знают, что жен-щинам отсюда, из города, случалось любить тех. И в тебе, наверное, есть несколько капель солнечной, лесной крови».
Уже после Д-503 и явно по его следам собственную индивидуальность через свою сексуальность будет обретать герой романа Джорджа Оруэлла «1984».
4. Тайна стиля
Юрий Николаевич Тынянов описывает «принцип стиля» этого произведения следующим образом: «…экономный образ вместо вещи… <…> …Все замкнуто, расчислено, взвешено линейно». А другой великий филолог, Михаил Леонович Гаспаров, определил стиль романа «Мы» как «геометрически-проволочный». На самом деле в произведении Замятина наблюдается эволюция стиля, кото-рую можно разбить на три этапа. Первый этап («геометрически-проволочный» стиль) — это начало романа, когда герой ощущает себя частью многомиллион-ного «мы»:
«Я люблю — уверен, не ошибусь, если скажу: мы любим — только такое вот, стерильное, безукоризненное небо. В такие дни — весь мир отлит из того же самого незыблемого, вечного стекла, как и Зеленая Стена, как и все наши постройки».
Но уже в начальных записях романа внимательный читатель обнаруживает вкрапления совсем другого стиля — метафорического и избыточного, восходящего к прозе символистов и Леонида Андреева (в герое заложена «червоточина» индивидуальности):
«Весна. Из-за Зеленой Стены, с диких невидимых равнин, ветер несет желтую медовую пыль каких-то цветов. От этой сладкой пыли сохнут губы — ежеминутно проводишь по ним языком — и, должно быть, сладкие губы у всех встречных женщин (и мужчин тоже, конечно). Это несколько мешает логически мыслить».
В середине романа (герой обретает индивидуальность, становится «я») этот цветистый стиль начинает доминировать:
«Раньше — все вокруг солнца; теперь я знал, все вокруг меня — мед-ленно, блаженно, с зажмуренными глазами…»
Наконец, в финале романа (герой теряет индивидуальность: утрачивает «я» и снова вливается в «мы») геометрически-проволочный стиль возвращается и утверждается настолько прочно, что рецидивам «символистского» стиля не остается места:
«Но на поперечном, 40-м проспекте удалось сконструировать временную Стену из высоковольтных волн. И я надеюсь — мы победим. Больше: я уверен — мы победим. Потому что разум должен победить».
5. Тайна ребенка
Все бы заканчивалось совсем мрачно и беспросветно, если бы не один, на пер-вый взгляд периферийный, сюжет романа и не одна реплика I-330 из «Записи 34-й». Дело в том, что Д-503 противозаконно «дал» (как сформулировано в «Записи 32-й») О-90 ребенка, а потом с помощью I-330 этот ребенок вместе с матерью был переправлен через Зеленую Стену за пределы Единого Государ-ства:
«…Вчера вечером пришла ко мне с твоей запиской… Я знаю — я все знаю: молчи. Но ведь ребенок — твой? И я ее отправила — она уже там, за Стеною. Она будет жить…»
Замятин неакцентированно дает внимательному читателю надежду: да, Д-503 в итоге потерпел в борьбе с Единым Государством сокрушительное поражение. Однако лучшее в нем, возможно, воскреснет в его ребенке за Зеленой Стеной.
6. Тайна дневника
Роман «Мы» часто именуют антиутопией, и это в общем справедливо, но, как кажется, помогает считывать лишь самые очевидные смыслы произведения и видеть в нем главным образом, по словам Замятина, «сигнал об опасности, угрожающей человеку, человечеству от гипертрофированной власти машин и власти государства — все равно какого».
Очень важно обратить внимание на другую жанровую особенность романа «Мы», а именно — на дневниковую форму, в которую заключено повество-вание. Определение жанра произведения как антиутопии не объясняет или почти не объясняет выбора подобной формы. Может быть, «Мы» — это мета-роман, то есть роман о попытке стать писателем? Взглянув на произведение под таким углом, мы сразу же заметим, что очень большое количество его фрагментов посвящены раскрытию темы написания текста. Более того, Д-503 саму жизнь, похоже, воспринимает как роман, как текст:
«Что ж, я хоть сейчас готов развернуть перед ним страницы своего мозга…»
«И я еще лихорадочно перелистываю в рядах одно лицо за другим — как страницы — и все еще не вижу того единственного, какое я ищу…»
«Кто тебя знает… Человек — как роман: до самой последней страницы не знаешь, чем кончится. Иначе не стоило бы и читать…»
«Прощайте — вы, неведомые, вы, любимые, с кем я прожил столько страниц…»
«Тут странно — в голове у меня, как пустая, белая страница».
И не получится ли тогда, что роман «Мы» будет уместнее поставить не столько в ряд антиутопий («О дивный новый мир» Хаксли, «1984» и «Скотный двор» Оруэлла, «Хищные вещи века» братьев Стругацких и так далее), сколько в ряд ключевых для русской литературы ХХ столетия произведений, одной из глав-ных тем которых является писательство и попытка стать писателем («Дар» Владимира Набокова, «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, «Доктор Живаго» Бориса Пастернака, «В круге первом» Александра Солженицына). Только во всех этих романах героям в итоге все же удается стать писателями, а в «Мы» — нет: «Я не могу больше писать — я не хочу больше».
7. Тайна Марселя Пруста
Не источником, но некоторым «исходником» для всех русских (и не только) метароманов о попытке героя стать писателем послужила семитомная сага Марселя Пруста «В поисках утраченного времени». Кажется, нет стилистически ничего более далекого от тягучей прустовской эпопеи, чем короткий и энер-гичный роман Замятина. Но именно Пруст первым в ХХ столетии поднял на новый уровень тему писательского творчества. Его главный герой Марсель всеми силами пытается задержать навсегда уходящее время и тем самым обре-сти бессмертие. Он пробует самые разные способы: например, ценой неимо-верных усилий сближается с древними аристократическими французскими семействами, которые кажутся ему самим воплощением времени. Только в последней книге под названием «Обретенное время» Марсель понимает, что лучший способ удержать время состоит в его подробнейшем описании — в его фиксации и консервировании. «Вселенная подлежит полному переписыва-нию» — вот ключевая фраза последнего романа Пруста и всей его саги.
Ставя перед своими «нумерами» задачу «составлять трактаты, поэмы, мани-фесты, оды или иные сочинения о красоте и величии Единого Государства», это Государство стремится обессмертить себя в слове. Однако в случае с Д-503 все идет по другому, непредусмотренному плану, так как писательство пробуждает в герое романа творческую индивидуальность.
Источники
- Замятин Е. И.
Мы. Текст и материалы к творческой истории романа.
Сост. М. Ю. Любимова, Дж. Куртис. СПб., 2011.