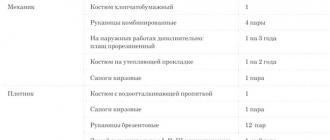Онлайн чтение книги Обелиск Василь Быков. Обелиск
Василь Быков
За два долгих года я так и не выбрал времени съездить в ту не очень и далекую от города сельскую школу. Сколько раз думал об этом, но все откладывал: зимой - пока ослабнут морозы или утихнет метель, весной - пока подсохнет да потеплеет; летом же, когда было и сухо и тепло, все мысли занимал отпуск и связанные с ним хлопоты ради какого-то месяца на тесном, жарком, перенаселенном юге. Кроме того, думал: подъеду, когда станет свободней с работой, с разными домашними заботами. И, как это бывает и жизни, дооткладывался до того, что стало поздно собираться в гости - пришло время ехать на похороны.
Узнал об этом также не вовремя: возвращаясь из командировки, встретил на улице знакомого, давнишнего товарища по работе. Немного поговорив о том о сем и обменявшись несколькими шутливыми фразами, уже распрощались, как вдруг, будто вспомнив что-то, товарищ остановился.
Слыхал, Миклашевич умер? Тот, что в Сельце учителем был.
Как умер?
Так, обыкновенно. Позавчера умер. Кажется, сегодня хоронить будут.
Товарищ сказал и пошел, смерть Миклашевича для него, наверно, мало что значила, а я стоял и растерянно смотрел через улицу. На мгновение я перестал ощущать себя, забыл обо всех своих неотложных делах - какая-то еще не осознанная виноватость внезапным ударом оглушила меня и приковала к этому кусочку асфальта. Конечно, я понимал, что в безвременной смерти молодого сельского учителя никакой моей вины не было, да и сам учитель не был мне ни родней, ни даже близким знакомым, но сердце мое остро защемило от жалости к нему и сознания своей непоправимой вины - ведь я не сделал того, что теперь уже никогда не смогу сделать. Наверно, цепляясь за последнюю возможность оправдаться перед собой, ощутил быстро созревшую решимость поехать туда сейчас же, немедленно.
Время с той минуты, как я принял это решение, помчалось для меня по какому-то особому отсчету, вернее - исчезло ощущение времени. Изо всех сил я стал торопиться, хотя удавалось это мне плохо. Дома никого из своих не застал, но даже не написал записки, чтобы предупредить их о моем отъезде,
Побежал на автобусную станцию. Вспомнив о делах на службе, пытался дозвониться туда из автомата, который, будто назло мне, исправно глотал медяки и молчал, как заклятый. Бросился искать другой и нашел его только у нового здания гастронома, но там в терпеливом ожидании стояла очередь. Ждал несколько минут, выслушивая длинные и мелочные разговоры в синей, с разбитым стеклом будке, поссорился с каким-то парнем, которого принял сначала за девушку, - штаны клеш и льняные локоны до воротника вельветовой курточки. Пока наконец дозвонился да объяснил, в чем дело, упустил последний автобус на Сельцо, другого же транспорта в ту сторону сегодня не предвиделось. С полчаса потратил на тщетные попытки захватить такси на стоянке, но к каждой подходившей машине бросалась толпа более проворных, а главное, более нахальных, чем я. В конце концов пришлось выбираться на шоссе за городом и прибегнуть к старому, испытанному в таких случаях способу - голосовать. Действительно, Седьмая или десятая машина из города, доверху нагруженная рулонами толя, остановилась на обочине и взяла нас - меня и парнишку в кедах, с сумкой, набитой буханками городского хлеба.
В пути стало немного спокойнее, только порой казалось, что машина идет слишком медленно, и я ловил себя на том, что мысленно ругаю шофера, хотя на более трезвый взгляд ехали мы обычно, как и все тут ездят. Шоссе было гладким, асфальтированным и почти прямым, плавно покачивало на пологих взгорках - то вверх, то вниз. День клонился к вечеру, стояла середина бабьего лета со спокойной прозрачностью далей, поредевшими, тронутыми первой желтизной перелесками, вольным простором уже опустевших полей. Поодаль, у леса, паслось колхозное стадо - несколько сот подтелков, все одного возраста, роста, одинаковой буро-красной масти. На огромном поле по другую сторону дороги тарахтел неутомимый колхозный трактор - пахал под зябь. Навстречу нам шли машины, громоздко нагруженные льнотрестой. В придорожной деревне Будиловичи ярко пламенели в палисадниках поздние георгины, на огородах в распаханных бороздах с сухой, полегшей ботвой копались деревенские тетки - выбирали картофель. Природа полнилась мирным покоем погожей осени; тихая человеческая удовлетворенность просвечивала в размеренном ритме извечных крестьянских хлопот; когда урожай уже выращен, собран, большинство связанных с ним забот позади, оставалось его обработать, подготовить к зиме и до следующей весны - прощай, многотрудное и многозаботное поле.
Но меня эта умиротворяющая благость природы, однако, никак не успокаивала, а только угнетала и злила. Я опаздывал, чувствовал это, переживал и клял себя за мою застаревшую лень, душевную черствость. Никакие мои прежние причины не казались теперь уважительными, да и вообще были ли какие-нибудь причины? С такой медвежьей неповоротливостью недолго было до конца прожить отпущенные тебе годы, ничего не сделав из того, что, может, только и могло составить смысл твоего существования на этой грешной земле. Так пропади оно пропадом, тщетная муравьиная суета ради призрачного ненасытного благополучия, если из-за него остается в стороне нечто куда более важное. Ведь тем самым опустошается и выхолащивается вся твоя жизнь, которая только кажется тебе автономной, обособленной от других человеческих жизней, направленной по твоему, сугубо индивидуальному житейскому руслу. На самом же деле, как это не сегодня замечено, если она и наполняется чем-то значительным, так это прежде всего разумной человеческой добротой и заботою о других - близких или даже далеких тебе людях, которые нуждаются в этой твоей заботе.
Наверно, лучше других это понимал Миклашевич.
И, кажется, не было у него особой на то причины, исключительной образованности или утонченного воспитания, которые выделяли бы его из круга других людей. Был он обыкновенным сельским учителем, наверно, не лучше и не хуже тысяч других городских и сельских учителей. Правда, я слышал, что он пережил трагедию во время войны и чудом спасся от смерти. И еще - что он очень болен. Каждому, кто впервые встречался с ним, было очевидно, как изводила его эта болезнь. Но я никогда не слыхал, чтобы он пожаловался на нее или дал бы кому-либо понять, как ему трудно. Вспомнилось, как мы с ним познакомились во время перерыва на очередной учительской конференции. С кем-то беседуя, он стоял тогда у окна в шумном вестибюле городского Дома культуры, и вся его очень худая, остроплечая фигура с выпирающими под пиджаком лопатками и худой длинной шеей показалась мне сзади удивительно хрупкой, почти мальчишечьей. Но стоило ему тут же обернуться ко мне своим увядшим, в густых морщинах лицом, как впечатление сразу менялось - думалось, что это довольно побитый жизнью, почти пожилой человек. В действительности же, и я это знал точно, в то время ему шел только тридцать четвертый год.
Рецензия на
Повесть Василя Быкова “Обелиск”
Ученика(цы) … класса
Школы № …
……………………….(Ф.И.О. в Родит.п.)
1 Вот уже более двух десятилетий почти каждая новая повесть белорусского прозаика Василя Быкова (а пишет он, если не считать ранних рассказов, исключительно в жанре повести), увидев свет, сразу же приковывает к себе неравнодушное читательское внимание и занимает достойное место в нашей столь сегодня богатой талантливыми произведениями многонациональной литературе. У творческого поиска этого автора есть ясно видимая закономерность: очередная его повесть – при всей своей самостоятельности, полноте и законченности – является в то же время в какой-то степени продолжением предыдущих его книг. Быков от повести к повести возвращается к волнующим его мыслям, развивая их и углубляя, и придвигаясь, таким образом, все дальше и дальше в решении центральной для всего его творчества проблемы – проблемы героизма. Такова его последняя повесть «партизанского» цикла “Обелиск”, написанная в 1972 году.
2 Что же послужило написанием этого произведения? Василь Владимирович Быков стал участником войны в восемнадцать лет. Было военное училище, был фронт. Сначала пехота, потом истребительная противотанковая артиллерия. Он все испытал, что положено было испытать бойцу: был ранен, был без вести пропавшим, даже имя его осталось на одной из братских могил тех лет. Поэтому во всесоюзном поиске, который ведется по разным направлениям, в том числе и литературном, есть своя тропа и у писателя Василия Быкова.
Она-то и привела его к обелиску, на котором значились пять имен подростков, погибших во время войны, а через годы и годы появилось еще одно имя - их учителя Алеся Ивановича Мороза.
В “Обелиске” на первое место выступает глубинное исследование внутренних мотивов и побудительных начал героизма, его нравственно – философское осмысление. Именно эта повесть наглядно показала всем, кто внимательно следил за становлением писателя, как зреет и развивается его талант, как все глубже и глубже идет его творческая “вспашка”.
2 У Василя Быкова были и большие и меньшие неудачи, некоторые его повести вызывали горячие споры в критике. Но то, что в преддверии 30-летия Победы над фашистской Германией, в 1974г., за повести «Обелиск» и «Дожить до рассвета» В. Быков был удостоен Государственной премии СССР, - свидетельствовало заслуженного или подлинно народного признания.
3.1 В основу повести “Обелиск” положена особая сюжетная и нравственная ситуация. Находящийся в партизанском отряде учитель Мороз, учеников которого, совершивших покушение на немцев и полицаев, пытают в полиции, добровольно идет к немцам. Идет, несмотря на то, что все его отговариваю, считая его поступок ненужной жертвой, идет, хотя твердо знает, что фашисты не выполнят своего обещания выпустить ребят, идет, потому что прекрасно понимает, что иначе в данной ситуации нельзя.
«Не надо было, учитель», - говорит пришедшему в Сельцо Морозу один из жителей, старик Бахан. «А тот одно только слово в ответ: «Надо».
“Вот такая, браток, история”, заканчивает свой рассказ пенсионер Ткачук, приходивший на похороны одного из бывших учеников Мороза, тоже ставшего учителем, Миклашевича, единственного из всех, кто тогда чудом избежал расстрела. “Да, невеселая история” - сказал я. “Невеселая что! Героическая история? Так я понимаю!”.
Именно героическим считает Быков поступок Мороза, утверждая это мнение всем содержанием повести. Героическим потому, что не спрятался учитель от немцев, распустивших по селу слух, что “так поступают Советы: чужими руками воюют, детей на заклание обрекают”, не оставил учеников в решительную минуту, “облегчил их незавидную судьбу”. Кроме того, самопожертвование Мороза, как и вся его безупречная жизнь, прошедшая на глазах у односельчан, это еще и пример для всех людей – пример человечности и духовной стойкости. Недаром Миклашевич становится, как и Мороз, учителем. И долгие годы после смерти своего наставника бьется сельский учитель, чтобы имя погибшего Алеся Ивановича Мороза появилось на обелиске рядом с именами его учеников. Не только ради восстановления справедливости и посмертных почестей, а ради утверждения моральных норм, по которым надо жить людям. Миклашевич восстанавливает прерванную нить, ведущую от поколения к поколению. Таков ответ писателя на вечный (и всегда новый) вопрос о смысле человеческой жизни.
Почему же, однако, долго не было на обелиске имени Мороза рядом с именами его учеников. Это выясняется много позже, после смерти Миклашевича, в споре нынешнего заврайоно Ксендзова с бывшим учителем и партизаном Тимофеем Ткачуком. “…Что такое он совершил? Убил хоть одного немца?” – спрашивает Ксендзов. “Он сделал больше, чем если бы убил сто. Он жизнь положил на плаху. Сам. Добровольно”. Но слова старого партизана мало убеждают Ксендзова.
Появляется Ксендзов на страницах “Обелиска” мельком, однако в художественной структуре повести играет важную роль. Ксендзов – натура безнравственная, бездуховная, только действует он уже в послевоенное время. Это – воплощение сытого благополучия и равнодушного благоразумия. Для Ксендзова совсем не важно, что Мороз продолжал учить белорусских ребятишек и что своей смертью он защищал непреходящие людские ценности.
Алесь Мороз, изображен в повести, как один из многих и многих, в ком человеческая готовность к самопожертвованию во имя людей, во имя добра на земле проявилась по-своему.
В фокусе повествования читатель может наблюдать страшную трагедию мирного населения, оказавшегося на оккупированной врагом территории. Василь Быков ставит здесь друг против друга не вооруженных людей. Вернее, вооружен лишь враг. А ему противостоят мирные люди, и тем яснее звучит здесь всегда столь дорогая писателю мысль, что не все подвластно грубой и безжалостной силе, что есть нечто гораздо более могущественное, чем сила оружия. Это “нечто”, как всегда у Быкова – мораль, нравственность, лежащие в основе основ бытия человека и кардинально определяющие его поведение, его выбор в жизненных критических ситуациях, особенно жестоких и трагических во время военного лихолетья. Именно тогда, глубоко убежден писатель, наиболее ярко обнаружилась “важность человеческой нравственности, незыблемость основных моральных критериев”.
Разрабатывая нравственную проблематику на материале минувшей войны, Василь Быков поднимает те глубинные пласты нравственной жизни отечества, которые находятся и сейчас, сегодня, сию минуту в противоборстве, становлении, кипении страстей и мнений. Оставаясь верной главной – и единственной – теме своего творчества – теме Великой Отечественной Войны автор стремится исследовать характеры своих героев, их нравственную и гражданскую сущность, не соблазняясь и здесь столь заманчивой перспективой отображения яркого, внешне эффектного героического деяния.
Нравственная сила подвига Мороза настолько сильна, что Павлик Миклашевич, единственный уцелевший из этих ребят, пронес идеи своего учителя через все жизненные испытания. Став учителем, он передал морозовскую "закваску" своим ученикам, и Ткачук, узнав, что один из них, Витька, помог поймать недавно бандита, удовлетворенно заметил: "Я так и знал. Миклашевич умел учить. Еще та закваска, сразу видать".
В повести, таким образом, намечены пути трех поколений: Мороза, Миклашевича, Витьки. Каждое из них достойно совершает свой героический путь, не всегда явно видимый, не всегда всеми признаваемый... В произведении кульминационный момент обозначен очень четко: Мороз решает пойти на смерть вместе со своими учениками. Развязка, по моему мнению, происходит в том месте, когда речь Ткачука вдруг надрывается, в момент его рассказа о смерти Мороза. Сюжет повести начинается со спора рассерженного Ткачука с Ксендзовым на похоронах Миклашевича, по поводу заслуг Мороза. И с самых первых строк произведения писатель заставляет задуматься над смыслом героизма и подвига, помогает вникнуть в нравственные истоки героического поступка. Перед Морозом, когда он шел из партизанского отряда в фашистскую комендатуру, перед Миклашевичем, когда он добивался реабилитации своего учителя, перед Витькой, когда он бросился защищать девушку, была возможность выбора. Поступить именно так или не поступать? Возможность формального оправдания их не устраивала. Каждый из них действовал, руководствуясь судом собственной совести. Такой человек, как Ксендзов, предпочел бы, скорее всего, устраниться; есть еще любители порицать и поучать, не способные на самопожертвование, не готовые творить добро ради других.
Мысль и нравственность следствия в зрелых вещах Быкова всегда главенствуют в его повестях. Необычайно сильные, пронзительно правдивые картины войны в его повестях непременно подводят к мысли – глубокой, страстной и всегда остро современной. Выявлению этой мысли подчинена художественная структура и “Обелиска”. В тексте очень часто употребляются устаревшие слова, что помогает читателю мысленно перенестись в Сельцо и лучше понять жизнь людей в те годы. Пропуск логических звеньев в предложениях позволяет создать особую атмосферу доверительности, искренности и приблизить стиль речи к разговорной.
7 Творчество В. Быкова трагично по своему звучанию, как трагична сама война, унесшая десятки миллионов человеческих жизней. Но писатель рассказывает о людях сильных духом, способных встать над обстоятельствами и самой смертью. “Обелиск” Быкова звучит как реквием о них, становится литературным обелиском, им посвященным. Но этим обращением к прошлому не исчерпывается содержание произведения. В нем читатель стремится рассмотреть во всей протяженности судьбы тех, кто погиб в войну, и тех, кто выжил, но продолжает чувствовать себя бойцом. Бойцом за справедливость, за восстановление имен и подвига погибших.
|
Другие материалы по творчеству Быков В.В.
|
Умер в белорусской деревне Сельцо не старый еще учитель Миклашевич.
Еще подростком принимал он участие в партизанских делах. Его друзья-школьники расстреляны немцами в сорок втором. Миклашевич добился, чтобы в их честь поставили небольшой памятник в Сельце. На обелиске — пять имен школьников. И масляной краской неумело дописано: «Мороз А.И.».
Вот и на поминках вспоминают Мороза. Кто он — Мороз?
Рассказывают о Морозе разные люди, а повествователь как бы «собирает картинку».
Учитель. Ребята за ним «табуном ходили». Один из этих ребят — Миклашевич. Тоже стал учителем и тоже притягивал к себе детей как магнит.
На Мороза, учителя старой закалки, жаловались: «не поддерживает дисциплины, как равный ведет себя с учениками, учит без необходимой строгости, не выполняет программ наркомата...»
Мороз Алесь Иванович жил в боковушке при классе в школе, открытой в бывшем панском доме. В Гродненском районе многие говорят по-польски, а с белорусским и русским — проблемы. Но Мороз считает: «Главное, чтобы ребята теперь поняли, что они люди, не быдло, не ка-кие-то там вахлаки, какими паны привыкли считать их отцов, а самые полноправные граждане».
Учил детей на собственном примере. Вместе с учениками порубил на дрова огромное упавшее дерево. Учительница старой школы, пани Ядя, считает, что этим можно уронить свой авторитет.
«В том, что мы сейчас есть как нация и граждане, главная заслуга сельских учителей ».
У Мороза было много конфликтов. Так, он позволил детям держать при школе собак, одна из которых ковыляла на трех лапах. А потом появился школьный скворец — тоже из доходяг. Был там и кот, жалкое такое создание, слепое, ничего не видит, а только мяукает — есть просит. На деле учил Мороз детей доброте.
По вечерам Мороз сам провожает девчушек из школы через лес, да еще и задерживается — помогает их матери с коровой, которой вздумалось растелиться. Этим же девочкам Мороз со скудной своей учительской зарплаты купил по паре ботинок, потому что мать решила их в морозы в школу не пускать.
Мальчика Павлика (Миклашевича) оставил жить у себя при школе, потому что пьяница-отец бил его.
Отец обратился к прокурору с заявлением. По закону ребенок должен жить в семье. А мальчик как увидел отца — съежился, будто зверек, близко не подходит.
Миклашевич-старший стал сына хлестать ремнем на виду у всей школы. Тогда Мороз чуть ли в драку не полез, не дал негодяю забрать парнишку. Судебная комиссия в конце концов решила передать парня в детдом. Мороз с этим не спешил.
Очень заботился учитель о том, чтобы дети читали. Книги для школьной библиотеки добывал, где только можно. Из старой усадьбы носил книги через реку по льду. Провалился у самого берега под лед, простудился — и целый месяц провалялся больной. Но и больной, лежа у себя в каморке, читал детям вслух Толстого. Говорил, что две страницы этого великого учителя важнее всей классики.
Крестьяне со всей округи смотрели на Мороза как на своего заступника. Он разъяснял, давал советы, ездил хлопотать в район или в Гродно — на попутках, хромой человек с палочкой.
И тут — война.
Через три дня в Сельце уже были немцы.
Мороз остался в школе, правда, не в усадьбе (немцы устроили там свою управу), а в сельской избе. Некоторые считали его немецким прихвостнем.
«Если вы имеете в виду мое теперешнее учительство, то оставьте ваши сомнения. Плохому я не научу. А школа необходима. Не будем учить мы — будут оболванивать они. А я не затем два года очеловечивал этих ребят, чтобы их теперь расчеловечили. Я за них еще поборюсь. Сколько смогу, разумеется».
«Хоть и под немецким контролем, но наверняка не на немцев работает Мороз. Если не на наше нынешнее, так на будущее», — так рассуждает бывший начальник учителя, а теперь партизан.
Для партизан Мороз стал самым драгоценным помощником, приемник достал. Записывал, что услышал. Главное — сводки Совинформбюро. И отряд, и вся округа ими пользовалась. У лесной сторожки висела дуплянка на сосне, туда пацаны их клали, а ночью партизаны забирали. Большой радостью была эта почта, особенно когда немцев из-под Москвы шибанули.
Было в Сельце два полицая. Один, Лавченя, хоть и пошел в полицаи, но много добра в этом звании людям сделал. А другому дали кличку Каин, и он ее заслужил: осенью раненых командиров, прятавшихся в лесу, расстрелял, усадьбу партизанского связного спалил, а его родителей, жену с детьми — всех расстреляли. Над евреями в местечке издевался, облавы устраивал.
Каин все-таки что-то заподозрил вокруг Морозовой школы. Устроили обыск, допрос.-.Ученик-переросток Бородич намекнул своему учителю, которого он очень уважал, что есть возможность пристукнуть Каина. Но учитель запретил самовольничать.
К весне сорок второго года вокруг Мороза в Сельце сложилась небольшая, но преданная ему группа ребят. Павлу Миклашевичу шел тогда пятнадцатый год. Коля Бородич был самым старшим, ему подбиралось уж к восемнадцати. Еще были братья Кожаны — Тимка и Остап. Смурный Николай (самый младший, тринадцати лет) и Смурный Андрей — однофамильцы.
И вот эти отчаянные хлопцы в тайне от учителя решили все-таки уничтожить жестокого полицая.
Ночью учитель явился в партизанский отряд: «Хлопцев взяли... » Сам Мороз еле вырвался — его предупредил полицай Лавченя.
Бородич все-таки подбил ребят подстеречь Каина. Полицай на немецкой машине с немцем-фельдфебелем, солдатом и еще двумя полицаями прикатил на отцовский хутор. В Сельце забрали свиней, похватали по хатам с десяток кур.
Ребята все разведали и додумались подпилить мостик, по которому Каин и прочие должны были возвращаться в местечко. Машина полицая перевернулась, но погиб только один придавленный ею немец. Остальные увидели убегающую фигурку — это был мальчишка.
Лавченя постучал в дверь к учителю ночью и выпалил: «Удирай, учитель, хлопцев забрали, за тобой идут».
Немцы и полицай вычислили, кто из ребят мог решиться на диверсию — и вычислили правильно.
Мороз укрылся у партизан. Но прибежала связная Ульяна: «Фашисты требуют учителя, иначе расстреляют учеников!»
Ясно, что и мальцов не отпустят, и учителя убьют. «Пропали, видно, хлопцы. Это так. Но каково матерям? Им ведь еще жить надо».
Партизаны удерживают Мороза, но тот идет сдаваться.
Командир партизанского отряда считает необходимым изменить местоположение лагеря, ведь Мороз может под пытками выдать, где находятся партизаны.
Бывший начальник учителя говорит, что Мороз ни за что никого не выдаст.
Ребят заперли в амбар, таскают на допросы, бьют, истязают. И ждут Мороза. «По селу распустили слух, что вот-де как поступают Советы:
чужими руками воюют, детей на заклание обрекают. Матери голосят, все лезут во двор к старосте, просят, унижаются, а полицаи их гонят. Николая Смурного мать, как самую горластую, тоже забрали за то, что на немца плюнула».
В разгар пыток является сам Мороз. Немцы скрутили ему руки. Каин написал своему начальству рапорт, что схватили главаря партизанской банды — Мороза. Так подлецу было выгодно.
Повели ребят на смерть, связав руки за спиной. Иван, старший брат близнецов, кинулся: «Отпустите! Вы же обещали!» Фашист дал ему парабеллумом по зубам, Иван не стерпел — ударил того ногой в живот. Его тут же расстреляли.
Мороз знал, что Павлик Миклашевич хорошо бегает, и шепнул ему: «Как я закричу — беги!» Криком Мороз отвлек внимание фашистов, и Павлик побежал. Но попытка оказалась неудачной: беглеца подстрелили. Однако сочли его мертвым и сбросили в талую воду.
Там его и подобрала ночью та самая бабка, у которой квартировал Мороз. Бабка повезла мальчика к отцу — тому самому, что когда-то безжалостно стегал его ремнем. Отец привез из города доктора, лечил, прятал, сам натерпелся, а сына вынянчил.
Шестерых смертников продержали еще несколько дней, а в воскресенье, как раз на первый день Пасхи, повесили.
Из семерых чудом уцелел один Миклашевич. Но болел постоянно: грудь прострелена навылет, да еще столько времени в талой воде пролежал. Начался туберкулез. А потом неожиданно прихватило сердце — и умер не старый еще человек.
И вот после похорон его разгораются споры: совершил Мороз подвиг или нет? Убил ли он хоть одного немца?
«Он сделал больше,.чем если бы убил сто. Он жизнь положил на плаху. Сам. Добровольно».
Учитель — за своих учеников.
Василь Быков
За два долгих года я так и не выбрал времени съездить в ту не очень и далекую от города сельскую школу. Сколько раз думал об этом, но все откладывал: зимой - пока ослабнут морозы или утихнет метель, весной - пока подсохнет да потеплеет; летом же, когда было и сухо и тепло, все мысли занимал отпуск и связанные с ним хлопоты ради какого-то месяца на тесном, жарком, перенаселенном юге. Кроме того, думал: подъеду, когда станет свободней с работой, с разными домашними заботами. И, как это бывает в жизни, дооткладывался до того, что стало поздно собираться в гости - пришло время ехать на похороны.
Узнал об этом также не вовремя: возвращаясь из командировки, встретил на улице знакомого, давнишнего товарища по работе. Немного поговорив о том о сем и обменявшись несколькими шутливыми фразами, уже распрощались, как вдруг, будто вспомнив что-то, товарищ остановился.
Слыхал, Миклашевич умер? Тот, что в Сельце учителем был.
Как умер?
Так, обыкновенно. Позавчера умер. Кажется, сегодня хоронить будут.
Товарищ сказал и пошел, смерть Миклашевича для него, наверно, мало что значила, а я стоял и растерянно смотрел через улицу. На мгновение я перестал ощущать себя, забыл обо всех своих неотложных делах - какая-то еще не осознанная виноватость внезапным ударом оглушила меня и приковала к этому кусочку асфальта. Конечно, я понимал, что в безвременной смерти молодого сельского учителя никакой моей вины не было, да и сам учитель не был мне ни родней, ни даже близким знакомым, но сердце мое остро защемило от жалости к нему и сознания своей непоправимой вины - ведь я не сделал того, что теперь уже никогда не смогу сделать. Наверно, цепляясь за последнюю возможность оправдаться перед собой, ощутил быстро созревшую решимость поехать туда сейчас же, немедленно.
Время с той минуты, как я принял это решение, помчалось для меня по какому-то особому отсчету, вернее - исчезло ощущение времени. Изо всех сил я стал торопиться, хотя удавалось это мне плохо. Дома никого из своих не застал, но даже не написал записки, чтобы предупредить их о моем отъезде, - побежал на автобусную станцию. Вспомнив о делах на службе, пытался дозвониться туда из автомата, который, будто назло мне, исправно глотал медяки и молчал, как заклятый. Бросился искать другой и нашел его только у нового здания гастронома, но там в терпеливом ожидании стояла очередь. Ждал несколько минут, выслушивая длинные и мелочные разговоры в синей, с разбитым стеклом будке, поссорился с каким-то парнем, которого принял сначала за девушку, - штаны клеш и льняные локоны до воротника вельветовой курточки. Пока наконец дозвонился да объяснил, в чем дело, упустил последний автобус на Сельцо, другого же транспорта в ту сторону сегодня не предвиделось. С полчаса потратил на тщетные попытки захватить такси на стоянке, но к каждой подходившей машине бросалась толпа более проворных, а главное, более нахальных, чем я. В конце концов пришлось выбираться на шоссе за городом и прибегнуть к старому, испытанному в таких случаях способу - голосовать. Действительно, седьмая или десятая машина из города, доверху нагруженная рулонами толя, остановилась на обочине и взяла нас - меня и парнишку в кедах, с сумкой, набитой буханками городского хлеба.
В пути стало немного спокойнее, только порой казалось, что машина идет слишком медленно, и я ловил себя на том, что мысленно ругаю шофера, хотя на более трезвый взгляд ехали мы обычно, как и все тут ездят. Шоссе было гладким, асфальтированным и почти прямым, плавно покачивало на пологих взгорках - то вверх, то вниз. День клонился к вечеру, стояла середина бабьего лета со спокойной прозрачностью далей, поредевшими, тронутыми первой желтизной перелесками, вольным простором уже опустевших полей. Поодаль, у леса, паслось колхозное стадо - несколько сот подтелков, все одного возраста, роста, одинаковой буро-красной масти. На огромном поле по другую сторону дороги тарахтел неутомимый колхозный трактор - пахал под зябь. Навстречу нам шли машины, громоздко нагруженные льнотрестой. В придорожной деревне Будиловичи ярко пламенели в палисадниках поздние георгины, на огородах в распаханных бороздах с сухой, полегшей ботвой копались деревенские тетки - выбирали картофель. Природа полнилась мирным покоем погожей осени; тихая человеческая удовлетворенность просвечивала в размеренном ритме извечных крестьянских хлопот; когда урожай уже выращен, собран, большинство связанных с ним забот позади, оставалось его обработать, подготовить к зиме и до следующей весны - прощай, многотрудное и многозаботное поле.
Но меня эта умиротворяющая благость природы, однако, никак не успокаивала, а только угнетала и злила. Я опаздывал, чувствовал это, переживал и клял себя за мою застаревшую лень, душевную черствость. Никакие мои прежние причины не казались теперь уважительными, да и вообще были ли какие-нибудь причины? С такой медвежьей неповоротливостью недолго было до конца прожить отпущенные тебе годы, ничего не сделав из того, что, может, только и могло составить смысл твоего существования на этой грешной земле. Так пропади она пропадом, тщетная муравьиная суета ради призрачного ненасытного благополучия, если из-за него остается в стороне нечто куда более важное. Ведь тем самым опустошается и выхолащивается вся твоя жизнь, которая только кажется тебе автономной, обособленной от других человеческих жизней, направленной по твоему, сугубо индивидуальному житейскому руслу. На самом же деле, как это не сегодня замечено, если она и наполняется чем-то значительным, так это прежде всего разумной человеческой добротой и заботою о других - близких или даже далеких тебе людях, которые нуждаются в этой твоей заботе.
Наверно, лучше других это понимал Миклашевич.
И, кажется, не было у него особой на то причины, исключительной образованности или утонченного воспитания, которые выделяли бы его из круга других людей. Был он обыкновенным сельским учителем, наверно, не лучше и не хуже тысяч других городских и сельских учителей. Правда, я слышал, что он пережил трагедию во время войны и чудом спасся от смерти. И еще - что он очень болен. Каждому, кто впервые встречался с ним, было очевидно, как изводила его эта болезнь. Но я никогда не слыхал, чтобы он пожаловался на нее или дал бы кому-либо понять, как ему трудно. Вспомнилось, как мы с ним познакомились во время перерыва на очередной учительской конференции. С кем-то беседуя, он стоял тогда у окна в шумном вестибюле городского Дома культуры, и вся его очень худая, остроплечая фигура с выпирающими под пиджаком лопатками и худой длинной шеей показалась мне сзади удивительно хрупкой, почти мальчишечьей. Но стоило ему тут же обернуться ко мне своим увядшим, в густых морщинах лицом, как впечатление сразу менялось - думалось, что это довольно побитый жизнью, почти пожилой человек. В действительности же, и я это знал точно, в то время ему шел только тридцать четвертый год.
Слышал о вас и давно хотел обратиться с одним запутанным делом, - сказал тогда Миклашевич каким-то глухим голосом.
Он курил, стряхивая пепел в пустой коробок из-под спичек, который держал в пальцах, и я, помнится, невольно ужаснулся, увидев эти его нервно дрожащие пальцы, обтянутые желтой сморщенной кожей. С недобрым предчувствием я поспешил перевести взгляд на его лицо - усталое, оно было, однако, удивительно спокойным и ясным.
Печать - великая сила, - шутливо и со значением процитировал он, и сквозь сетку морщин на его лице проглянула добрая, со страдальческой грустью усмешка.
Я знал, что он ищет что-то в истории партизанской войны на Гродненщине, что сам еще подростком принимал участие в партизанских делах, что его друзья-школьники расстреляны немцами в сорок втором и что хлопотами Миклашевича в их честь поставлен небольшой памятник в Сельце. Но вот, оказывается, было у него и еще какое-то дело, в котором он рассчитывал на меня. Что ж, я был готов. Я обещал приехать, поговорить и по возможности разобраться, если дело действительно запутанное, - в то время я еще не потерял охоту к разного рода запутанным, сложным делам.
И вот опоздал.
В небольшом придорожном леске с высоко вознесшимися над дорогой шапками сосен шоссе начинало плавное широкое закругление, за которым показалось, наконец, и Сельцо. Когда-то это была помещичья усадьба с пышно разросшимися за много десятков лет суковатыми кронами старых вязов и лип, скрывавшими в своих недрах старосветский особняк - школу. Машина неторопливо приближалась к повороту в усадьбу, и это приближение новой волной печали и горечи охватило меня - я подъезжал. На миг появилось сомнение: зачем? Зачем я еду сюда, на эти печальные похороны, надо было приехать раньше, а теперь кому я могу быть тут нужен, да и что тут может понадобиться мне? Но, по-видимому, рассуждать таким образом уже не имело смысла, машина стала замедлять ход. Я крикнул парнишке-попутчику, который, судя по его спокойному виду, ехал дальше, чтобы тот постучал шоферу, а сам по шершавым рулонам толя подобрался к борту, готовясь спрыгнуть на обочину.
В конце тёплого октябрьского дня, когда «урожай уже выращен, а природа полнилась покоем погожей осени», сорокалетний журналист одной из районных газет Гродненской области, встретив на улице знакомого, узнал, что два дня назад умер ещё молодой (36 лет!) учитель Миклашевич из села Сельцо. Сердце защемило от сознания непоправимой вины. Цепляясь за последнюю возможность оправдаться перед собой, он решил ехать в Сельцо немедленно. Проезжавший мимо грузовик оказался как нельзя кстати. Устроившись на рулонах толя в кузове, журналист погрузился в воспоминания.
Два года назад, на учительской конференции, Миклашевич сказал журналисту, что давно хотел обратиться к нему с одним запутанным делом. Все знали, что Миклашевич в подростковом возрасте во время оккупации был как-то связан с партизанами, а его пятерых одноклассников расстреляли фашисты. Хлопотами Миклашевича в их честь был поставлен памятник. Учитель занимался историей партизанской войны на Гродненщине. И теперь ему требовалась помощь в каком-то запутанном деле. Журналист обещал приехать и помочь. Но всё время откладывал поездку. До Сельца было порядка двадцати километров, и зимой он ждал, «пока ослабнут морозы или утихнет метель, весной - пока подсохнет да потеплеет; летом же, когда было и сухо и тепло, все мысли занимал отпуск и хлопоты ради какого-то месяца на тесном, жарком юге». И вот опоздал.
Перед его мысленным взором предстала очень худая, остроплечая фигура Миклашевича, с выпирающими под пиджаком лопатками и почти мальчишеской шеей. У него было увядшее, в густых морщинах лицо. Казалось, что это побитый жизнью, пожилой человек. Но взгляд спокойный и ясный.
Трясясь на ухабах, журналист ругал «суету ради призрачного ненасытного благополучия», из-за которой «остаётся в стороне более важное, а жизнь значительна, когда заполнена заботою о близких или далёких людях, которые нуждаются в твоей помощи».
За поворотом показался обелиск, стоявший неподалёку от автобусной остановки. Спрыгнув на землю, журналист направился к длинной аллее из древних, широкостволых вязов, в конце которой белело здание школы. Подъехавший с ящиком «Московской» водки зоотехник, подсказал, что поминки справляют в учительском доме, за школой. Для журналиста нашли свободное место рядом с пожилым, судя по орденской планке, ветераном. В это время на стол поставили несколько бутылок, и присутствующие заметно оживились. Слово взял заведующий районо Ксендзов.
Молодой ещё человек с начальственной уверенностью на лице поднял стакан и стал говорить, какой Миклашевич был хороший коммунист, активный общественник. И теперь, когда залечены раны войны, и советский народ добился выдающихся успехов во всех отраслях экономики, культуры, науки и образования...
При чём тут успехи! - грохнул кулаком по столу сосед-ветеран. - Мы похоронили человека! Вот дожили! Сидим, пьём в Сельце, и никто не вспомнит Мороза, которого здесь должен знать каждый.
Происходило что-то такое, чего журналист не понимал, но что понимали другие. Он тихо спросил соседа справа, кто такой этот шумный ветеран. Оказалось, что бывший здешний учитель Тимофей Титович Ткачук, живущий ныне в городе.
Ткачук направился к выходу. Журналист двинулся за ним. Оставаться не было смысла. Подойдя к остановке, Ткачук сел на листву, опустив ноги в сухую канаву, а журналист, не упуская из виду дорогу, побрёл к обелиску. Это было приземистое - чуть выше человеческого роста - бетонное сооружение с оградой из штакетника. Выглядел обелиск бедно, но был ухожен. Журналист удивился, увидев на чёрной металлической табличке новое имя - Мороз А.И., выведенное над остальными белой масляной краской.
На асфальт вышел Ткачук и предложил журналисту ехать с ним на попутках. Шли молча. Чтобы как-то разрядить обстановку, журналист спросил у Ткачука, давно ли тот знаком с Миклашевичем. Оказалось, давно. И считает его настоящим человеком и учителем с большой буквы. Ребята за ним табуном ходили. А когда пацаном был, то и сам в табуне за Морозом ходил. Журналист никогда не слышал о Морозе, и Тимофей Титович начал свой рассказ.
В ноябре 1939-го, когда Западная Белоруссия воссоединилась с Белорусской ССР, Наркомат просвещения направил Тимофея Ткачука, окончившего учительские двухгодичные курсы, в Западную Белоруссию организовывать школы и колхозы. Молодой Ткачук, как заведующий районо, мотался по району, сам работал в школах. Хозяин усадьбы Сельцо пан Габрусь подался к румынам, а в усадьбе Мороз открыл школу на четыре класса. Вместе с Морозом работала пани Подгайская, пожилая женщина, жившая тут при Габрусе. Русским языком она почти не владела, белорусский немного понимала. Поначалу пани Подгайская противилась новым методам педагогического воспитания, которые ввёл Мороз, наряду с агитацией не ходить в костёл. Даже жаловалась Ткачуку. Ткачук, взяв велосипед - по-здешнему ровар - поехал в Сельцо проверить, что же происходит в школе.
На школьном дворе было полно детворы. Там полным ходом шла работа - заготавливались дрова. Бурей повалило огромное дерево, и вот теперь его пилили. Дров тогда не хватало, приходили жалобы из школ насчёт топлива, а транспорта в районе никакого. А здесь сообразили и не ждут, когда их обеспечат топливом. Один парень, пиливший толстенный ствол на пару с рослым подростком, сильно хромая, подошёл к Ткачуку. Одна нога у него была вывернута в сторону и не разгибалась. А так ничего парень - плечистый, лицо открытое, взгляд смелый. Представился он Морозом Алесем Ивановичем.
Родом Алесь оказался с Могилёвщины. После окончания педтехникума пять лет учительствовал. Нога такая с рождения. Мороз признал, что с наркоматовскими программами в школе действительно не все в порядке, успеваемость не блестящая. Ребята учились в польской школе, многие плохо справляются с белорусской грамматикой. Но главное в том, чтобы они постигли национальную и общечеловеческую культуру. Он хотел сделать из детей не послушных зубрил, а прежде всего людей. А это в методиках не очень-то разработано. Достичь такого можно только личным примером учителя. Мороз учил ребят душой понимать нравственные постулаты. Прививал и грамотность, и доброту. Подобрали где-то школьники трехлапую собачонку, да слепого кота, и Мороз разрешил их поселить в школе. Потом появился скворец, осенью отстал от стаи, так ему смастерили клетку.
Однажды поздним январским вечером 1941-го года, проезжая мимо, Ткачук решил обогреться в школе. Дверь открыл худенький мальчонка лет десяти. Он рассказал, что Алесь Иванович пошёл провожать через лес двух младших девочек-близняшек. Часа через три вернулся заиндевевший Мороз. С девчушками такая история. Наступили холода, мать не пускает в школу: обувка плохая и ходить далеко. Тогда Мороз купил им по паре ботинок. Обычно девочек сопровождал Коля Бородич, тот, что некогда с учителем пилил колоду. Сегодня же он не пришёл в школу, вот и довелось учителю идти в провожатые. А про своего квартиранта сказал, что парнишка побудет пока в школе, дома, мол, нелады, отец сильно бьёт. Парнишка тот и был Павликом Миклашевичем.
Спустя две недели районный прокурор Сивак приказал Ткачуку ехать в Сельцо и забрать у Мороза сына гражданина Миклашевича. Возражений прокурор слушать не пожелал: закон! Мороз выслушал молча, позвал Павла. Тот отказался идти домой. Мороз неубедительно так объясняет, что по закону сын должен жить с отцом и, в данном случае, с мачехой. Мальчик заплакал, а Миклашевич-старший повёл его к шоссе. И вот все видят, как отец снимает с кожуха ремень и начинает бить мальчика. Милиционер молчит, дети с упрёком смотрят на взрослых. Мороз, хромая, побежал через двор. «Стойте, - кричит, - прекратите избиение!» Вырвал Павлову руку из отцовской: «Вы у меня его не получите!» Чуть не подрались, успели их разнять. Передали все дело на исполком, назначили комиссию, а отец подал в суд. Но Мороз все-таки своего добился: комиссия определила парня в детдом. С выполнением этого соломонова решения Мороз не спешил.
Война перевернула весь жизненный уклад. Из Гродно пришёл приказ: организовать истребительный отряд, чтобы вылавливать немецких диверсантов и парашютистов. Ткачук бросился собирать учителей, объездил шесть школ, и к обеду был уже в райкоме. Но руководство укатило со всеми своими пожитками в Минск. Немцы наступали, а отступающих советских войск нигде не было видно.
На третий день войны, в среду, немцы уже были в Сельце. Ткачук да ещё двое учителей еле успели спрятаться в лесу. Ждали, что наши недели через две прогонят немцев. Если бы кто сказал, что война на четыре года затянется, его провокатором посчитали бы. И тут оказалось, что многие люди не только не настроены оказывать оккупантам сопротивление, но и охотно идут служить к немцам.
Учителя встретили группу окруженцев, руководимую кубанским казаком Селезнёвым, кавалерийским майором. Окопались в урочище Волчьи ямы и стали к зиме готовиться. Оружия почти не было. Пристал к отряду и прокурор Сивак. Здесь он уже был рядовым. На совете решили, что надо наладить связи с сёлами, с надёжными людьми, «пощупать на хуторах окруженцев, которые из частей разбежались да к молодицам пристроились». Майор разослал всех местных, кого куда.
Ткачук и Сивак решили зайти в Сельцо, где у прокурора был знакомый активист. Но узнали, что активист Лавченя ходит с белой повязкой на рукаве - стал полицаем. А учитель Мороз продолжает работать в школе - немцы дали разрешение. Правда, уже не в Габрусевой усадьбе - там теперь полицейский участок, - а в одной из хат. Ткачук был поражён. От Алеся он такого не ждал. А тут прокурор зудит, что в своё время, мол, надо было этого Мороза репрессировать - не наш человек.
Стемнело. Договорились, что Ткачук зайдёт один, а прокурор подождёт в загуменье, за кустами. Встретились с Морозом молча. Алесь кисло усмехнулся и стал говорить, что не будем учить мы - будут оболванивать немцы. А он не для того два года очеловечивал этих ребят, чтобы их теперь расчеловечили. Позвали прокурора. Поговорили откровенно обо всем. Стало понятно, что Мороз умнее других. Он своим умом брал шире. Даже прокурор это понял. Решили, что Мороз останется в селе, и будет извещать партизан о намерениях фашистов.
Учитель оказался незаменимым помощником. К тому же его уважали и сельчане. Мороз потихоньку слушал радиоприёмник. Запишет сводки Совинформбюро, на которые самый большой спрос был, распространит среди населения и в отряд передаст. Два раза в неделю пацаны клали записки в дуплянку, висевшую у лесной сторожки на сосне, а ночью их забирали партизаны. Сидели в декабре по своим ямам - все замело снегом, холод, с едой туго, и только радости, что эта Морозова почта. Особенно когда немцев разбили под Москвой.
Первое время у Мороза все шло хорошо. Немцы и полицаи не приставали, следили издали. Единственное, что камнем висело на его совести - судьба тех двух близняшек. В начале июня сорок первого Мороз уговорил их мамашу, опасливую деревенскую бабу, отправить дочерей в пионерский лагерь. Только они уехали, а тут война. Так и пропали девочки.
Один из двоих местных полицаев, бывший знакомый прокурора Лавченя, иногда помогал сельчанам и партизанам, предупреждая об облавах. Зимой сорок третьего немцы расстреляли его. А вот второй оказался последним гадом. По сёлам его звали Каин. Много бед он принёс людям. До войны жил с отцом на хуторе, был молодой, неженатый - парень как парень. Но пришли немцы - и переродился человек. Наверное, в одних условиях раскрывается одна часть характера, а в других - другая. Сидело в этом Каине до войны что-то подлое, и может, не вылезло бы наружу. А тут вот попёрло. С усердием служил немцам. Расстреливал, насиловал, грабил. Над евреями издевался. И заподозрил Каин что-то в отношении Мороза. Однажды нагрянула полиция в школу. Там как раз шли занятия - человек двадцать детворы в одной комнатке за двумя длинными столами. Врывается Каин, с ним ещё двое и немец - офицер из комендатуры. Перетрясли ученические сумки, проверили книжки. Ничего не нашли. Только учителю допрос устроили. Тогда ребята, во главе с Бородичом что-то задумали. Затаились даже от Мороза. Однажды, правда, Бородич, будто между прочим, намекнул, что неплохо бы пристукнуть Каина. Есть такая возможность. Мороз запретил, но Бородич не думал расставаться с этими мыслями.
Павлу Миклашевичу шёл тогда пятнадцатый год. Коля Бородич был самым старшим, ему было восемнадцать. Ещё братья Кожаны - Тимка и Остап, однофамильцы Смурный Николай и Смурный Андрей, всего шестеро. Самому младшему - Смурному Николаю, было лет тринадцать. Эта компания всегда держалась вместе. Дурости и смелости у них было хоть отбавляй, а вот сноровки и ума - в обрез. Долго прикидывали, и, наконец, разработали план.
Каин часто приезжал к отцу на хутор, через поле от Сельца. Там он пьянствовал да забавлялся с девками. Один приезжал редко, больше с другими полицаями, а то и с немецким начальством. В первую зиму они держали себя нахально, ничего не боялись. Все случилось нежданно-негаданно. Уже наступила весна, и с полей сошёл снег. К тому времени Ткачук стал комиссаром отряда. Рано утром его разбудил часовой. Сказал, что задержали какого-то хромого. В землянку ввели Мороза. Он присел на нары и говорит таким голосом, словно похоронил родную мать: «Хлопцев забрали».
Оказалось, что Бородич все-таки добился своего: ребята подстерегли Каина. Несколько дней назад тот на немецкой машине с фельдфебелем, солдатом и двумя полицаями прикатил к отцу. Там и заночевали. Перед этим заехали в Сельцо, забрали свиней, похватали по хатам с десяток кур. На дороге, недалеко от пересечения с шоссе, через овражек был перекинут небольшой мосток. До воды метра два, хоть и воды той по колено. К мостку вёл крутоватый спуск, а потом подъем, поэтому машина или подвода вынуждена брать разгон, иначе на подъем не выберешься. Пацаны это и учли. Как стемнело, все шестеро с топорами и пилами - к этому мостику. Подпилили столбы наполовину, чтоб человек или конь могли перейти, а машина нет. Двое - Бородич и Смурый Николай остались наблюдать, а остальных отправили по домам.
Но в тот день Каин припозднился, и машина показалась на дороге, когда уже полностью рассвело. Машина медленно ползла по плохой дороге и не смогла взять необходимый разгон. На мосту шофёр стал переключать скорость, и тогда одна поперечина подломилась. Машина накренилась и боком полетела под мост. Как потом выяснилось, седоки и свиньи с курами просто съехали в воду и тут же благополучно повыскакивали. Не повезло немцу, угодившему под борт. Его придавило насмерть.
Хлопцы рванули в деревню, но кто-то из полицаев заметил, как в кустах мелькнула фигура ребёнка. Через какой-то час все в селе уже знали, что случилось у оврага. Мороз сразу бросился в школу, послал за Бородичем, но того не оказалось дома. Миклашевич не выдержал и рассказал учителю обо всем. Мороз не знал, что придумать. И вот в полночь слышит стук в дверь. На пороге стоял полицай, тот самый Лавченя. Он сообщил, что мальчишек схватили и уже идут за Морозом.
Мороза оставили в отряде. Он ходил, словно в воду опущенный. Прошло ещё пару дней. И вдруг в лес прибежала Ульяна - связная с лесного кордона. Ей разрешалось приходить только в самом крайнем случае. Немцы требовали выдать Мороза, иначе угрожали повесить ребят. Ночью к Ульяне прибежали их матери, просят Христом-Богом: «Ульяночка помоги». Она в ответ: «Откуда мне знать, где тот Мороз?» А они: «Сходи, пусть он спасает мальцов. Он же умный, он их учитель».
Ещё шесть камней на душу бедного учителя! Ясно было, что и ребят не отпустят, и его убьют. Вылезли из землянки, а тут Мороз. Стоит у входа, держит винтовку, а на самом лица нету. Всё слышал и просится идти. Селезнев и Ткачук обозлились. Кричали, что надо быть идиотом, чтобы поверить немцам, будто они выпустят хлопцев. Идти - безрассудное самоубийство. А Мороз спокойно отвечает: «Это верно». И тогда Селезнев сказал: «Через час продолжим разговор». А потом обнаружили, что Мороза нигде нет. Послали в Сельцо Гусака, у которого там проживал свояк, чтобы проследить, как оно будет дальше. Вот от этого Гусака, а потом уже и от Павла Миклашевича и стало известно, как развивались события.
Ребята сидят в амбаре, немцы допрашивают их и бьют. И ждут Мороза. Матери лезут во двор к старосте, просят, унижаются, а полицаи их гонят. Поначалу ребята держались твёрдо: ничего не знаем, ничего не делали. Их стали истязать, и первым не стерпел Бородич, взял все на себя, и думал, что остальных отпустят. И в эту самую пору является Мороз. Рано утром, когда село ещё спало, шагнул он во двор к старосте. Немцы скрутили Морозу руки, содрали кожушок. Как привели в старостову хату, старик Бохан улучил момент и говорит тихонько: «Не надо было, учитель».
Теперь вся «банда» оказалась в сборе. Хлопцы ещё в амбаре упали духом, когда услышали за дверьми голос Алеся Ивановича. До самого конца никто из них не думал, что учитель пришёл добровольно. Считали, что схватили его где-то. И он им ничего о себе не сказал. Только подбадривал. Под вечер вывели всех семерых на улицу, все кое-как держались на ногах, кроме Бородича. Старший брат близнецов Кожанов, Иван, пробрался вперёд и говорит какому-то немцу: «Как же так? Вы же говорили, что когда явится Мороз, то отпустите хлопцев». Немец ему парабеллумом в зубы, а Иван ему ногой в живот. Ивана застрелили.
Вели по той самой дороге, через мосток. Впереди Мороз с Павликом, за ним близнецы Кожаны, потом однофамильцы Смурные. Позади два полицая волокли Бородича. Полицаев было человек семь и четыре немца. Разговаривать никому не давали. Руки у всех были связаны сзади. А вокруг - знакомые с детства места. Миклашевич вспоминал, что такая тоска на него напала, хоть кричи. Оно и понятно. По четырнадцать-шестнадцать лет хлопцам. Что они видели в этой жизни?
Подошли к мостку. Мороз шепчет Павлику: «Как крикну, бросайся в кусты». Павлику показалось тогда, что Мороз что-то знает. А лесок вот уже - рядом. Дорога узенькая, два полицая идут впереди, двое по сторонам. Внезапно Мороз громко крикнул: «Вот он, вот - смотрите!» И сам влево от дороги смотрит, плечом и головой показывает, словно кого-то увидел там. И так естественно это у него получилось, что даже Павлик туда глянул. Но только раз глянул, потом прыгнул в противоположную сторону и оказался в чаще. Спустя секунды кто-то ударил из винтовки, потом ещё. Полицаи приволокли Павла. Рубашка на его груди пропиталась кровью, голова обвисла. Мороза избили так, что уже не поднялся. Каин для уверенности ударил Павлика прикладом по голове и спихнул в канаву с водой.
Там его и подобрали ночью. А тех шестерых довезли до местечка и подержали ещё пять дней. В воскресенье, как раз на первый день Пасхи, вешали. На телефонном столбе у почты укрепили перекладину - толстый такой брус, получилось подобие креста. Сначала Мороза и Бородича, потом остальных, то с одной, то с другой стороны. Для равновесия. Так и стояло это коромысло несколько дней. Закопали в карьере за кирпичным заводом. Потом уже, когда война кончилась, перехоронили поближе к Сельцу.
Когда в 44-м выбили немцев, в Гродно остались кое-какие бумаги: документы полиции, гестапо. И нашли одну бумагу касательно Алеся Ивановича Мороза. Обыкновенный листок из тетрадки в клетку, написано по-белорусски, - рапорт старшего полицейского Гагуна Федора, того самого Каина, своему начальству. Мол, такого-то апреля 42-го команда полицейских под его началом захватила главаря местной партизанской банды Алеся Мороза. Эта ложь была нужна Каину, да и немцам. Взяли ребят, а через три дня поймали и главаря банды - было о чём рапортовать. К тому же, когда в отряде набралось немало убитых и раненых, потребовали из бригады данные о потерях. Вспомнили Мороза. Он всего два дня в партизанах побыл. Селезнев и говорит: «Напишем, что попал в плен. Пусть сами разбираются». Так к немецкому прибавился ещё и наш документ. И опровергнуть эти две бумажки было почти невозможно. Спасибо Миклашевичу. Он все-таки доказал истину.
Но здоровья он так и не набрал. Грудь прострелена навылет, да ещё столько времени в талой воде пролежал. Начался туберкулёз. Почти каждый год в больницах лечился. В последнее время, казалось, неплохо себя чувствовал. Но пока лечил лёгкие, сдало сердце. «Доконала таки война нашего Павла Ивановича, - закончил Ткачук.
Мимо проскочила машина, но вдруг замедлила ход и остановилась. Заведующий районо Ксендзов согласился подвезти. Машина тронулась. Заведующий повернулся вполоборота и продолжил спор, начатый в Сельце. Ксендзов менторским тоном вещал, что есть герои не чета этому Морозу, который даже ни одного немца не убил. И поступок его безрассуден - никого не спас. А Миклашевич случайно остался в живых. И никакого подвига в этом он не видит. Ткачук, более не сдерживаясь, ответил, что видно заведующий душевно близорукий! И остальные, подобные ему - слепые и глухие, невзирая на посты и ранги. Ксендзову всего 38 лет, и войну он знает по газетам да по кино. А Ткачук её своими руками делал. И Мороз принял участие. Миклашевич в её когтях побывал, да так и не вырвался. Закончилось тем, что Ткачук обозвал Ксендзова «безмозглым дураком» и потребовал остановить машину. Шофёр стал притормаживать. Журналист попытался его остановить. Ткачук бросил ещё несколько фраз о том, что такие люди, как Ксендзов, опасны тем, что для них всё ясно загодя. Но так нельзя жить. Жизнь - это миллионы ситуаций, миллионы характеров и судеб. Их нельзя втиснуть в две-три расхожие схемы, чтоб поменьше хлопот. Мороз сделал больше, чем если бы убил сто немцев. Он жизнь положил на плаху добровольно. Нет ни Мороза, ни Миклашевича. Но ещё жив Тимофей Ткачук! И больше молчать он не будет. Всем расскажет о подвиге Мороза.
Не встретив возражений, Ткачук замолчал. Ксендзов тоже молчал, уставившись на дорогу. Фары ярко резали темень. По сторонам мелькали белые в лучах света столбы, дорожные знаки, вербы с побелёнными стволами...
Подъезжали к городу.