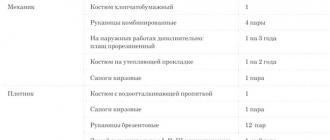Леонид андреев красный смех скачать fb2. Читать бесплатно книгу красный смех - андреев леонид
«…безумие и ужас. Впервые я почувствовал это, когда мы шли по энской дороге – шли десять часов непрерывно, не останавливаясь, не замедляя хода, не подбирая упавших и оставляя их неприятелю, который сплошными массами двигался сзади нас и через три-четыре часа стирал следы наших ног своими ногами. Стоял зной. Не знаю, сколько было градусов: сорок, пятьдесят или больше; знаю только, что он был непрерывен, безнадежно-ровен и глубок. Солнце было так огромно, так огненно и страшно, как будто земля приблизилась к нему и скоро сгорит в этом беспощадном огне…»
Отрывок первый
… безумие и ужас.
Впервые я почувствовал это, когда мы шли по энской дороге – шли десять часов непрерывно, не останавливаясь, не замедляя хода, не подбирая упавших и оставляя их неприятелю, который сплошными массами двигался сзади нас и через три-четыре часа стирал следы наших ног своими ногами. Стоял зной. Не знаю, сколько было градусов: сорок, пятьдесят или больше; знаю только, что он был непрерывен, безнадежно-ровен и глубок. Солнце не было так огромно, так огненно и страшно, как будто земля приблизилась к нему и скоро сгорит в этом беспощадном огне. И не смотрели глаза. Маленький, сузившийся зрачок, маленький, как зернышко мака, тщетно искал тьмы под сенью закрытых век: солнце пронизывало тонкую оболочку и кровавым светом входило в измученный мозг. Но все-таки так было лучше, и я долго, быть может, несколько часов, шел с закрытыми глазами, слыша, как движется вокруг меня толпа: тяжелый и неровный топот ног, людских и лошадиных, скрежет железных колес, раздавливающих мелкий камень, чье-то тяжелое, надорванное дыхание и сухое чмяканье запекшимися губами. Но слов я не слыхал. Все молчали, как будто двигалась армия немых, и, когда кто-нибудь падал, он падал молча, и другие натыкались на его тело, падали, молча поднимались и, не оглядываясь, шли дальше – как будто эти немые были также глухи и слепы. Я сам несколько раз натыкался и падал, и тогда невольно открывал глаза, – и то, что я видел, казалось диким вымыслом, тяжелым бредом обезумевшей земли. Раскаленный воздух дрожал, и беззвучно, точно готовые потечь, дрожали камни; и дальние ряды людей на завороте, орудия и лошади отделились от земли и беззвучно студенисто колыхались – точно не живые люди это шли, а армия бесплотных теней. Огромное, близкое, страшное солнце на каждом стволе ружья, на каждой металлической бляхе зажгло тысячи маленьких ослепительных солнц, и они отовсюду, с боков и снизу забирались в глаза, огненно-белые, острые, как концы добела раскаленных штыков. А иссушающий, палящий жар проникал в самую глубину тела, в кости, в мозг, и чудилось порою, что на плечах покачивается не голова, а какой-то странный и необыкновенный шар, тяжелый и легкий, чуждой и страшный.
И тогда – и тогда внезапно я вспомнил дом: уголок комнаты, клочок голубых обоев и запыленный нетронутый графин с водою на моем столике – на моем столике, у которого одна ножка короче двух других и под нее подложен свернутый кусочек бумаги. А в соседней комнате, и я их не вижу, будто бы находятся жена моя и сын. Если бы я мог кричать, я закричал бы – так необыкновенен был этот простой и мирный образ, этот клочок голубых обоев и запыленный, нетронутый графин.
Знаю, что я остановился, подняв руки, но кто-то сзади толкнул меня; я быстро зашагал вперед, раздвигая толпу, куда-то торопясь, уже не чувствуя ни жара, ни усталости. И я долго шел так сквозь бесконечные молчаливые ряды, мимо красных, обожженных затылков, почти касаясь бессильно опущенных горячих штыков, когда мысль о том, что же я делаю, куда иду так торопливо, – остановила меня. Так же торопливо повернул в сторону, пробился на простор, перелез какой-то овраг и озабоченно сел на камень, как будто этот шершавый, горячий камень был целью всех моих стремлений.
И тут впервые я почувствовал это. Я ясно увидел, что эти люди, молчаливо шагающие в солнечном блеске, омертвевшие от усталости и зноя, качающиеся и падающие, – что это безумные. Они не знают, куда они идут, они не знают, зачем это солнце, они ничего не знают. У них не голова на плечах, а странные и страшные шары. Вот один, как и я, торопливо пробирается сквозь ряды и падает; вот другой, третий. Вот поднялась над толпою голова лошади с красными безумными глазами и широко оскаленным ртом, только намекающим на какой-то страшный и необыкновенный крик, поднялась, упала, и в этом месте на минуту сгущается народ, приостанавливается, слышны хриплые, глухие голоса, короткий выстрел, и потом снова молчаливое, бесконечное движение. Уже час сижу я на этом камне, а мимо меня все идут, и все так же дрожит земля, и воздух, и дальние призрачные ряды. Меня снова пронизывает иссушающий зной, и я уже не помню того, что представилось мне на секунду, а мимо меня все идут, идут, и я не понимаю, кто это. Час тому назад я был один на этом камне, а теперь уже собралась вокруг меня кучка серых людей: одни лежат и неподвижны, быть может, умерли; другие сидят и остолбенело смотрят на проходящих, как и я. У одних есть ружья, и они похожи на солдат; другие раздеты почти догола, и кожа на теле так багрово-красна, что на нее не хочется смотреть. Недалеко от меня лежит кто-то голый спиной кверху. По тому, как равнодушно уперся он лицом в острый и горячий камень, по белизне ладони опрокинутой руки видно, что он мертв, но спина его красна, точно у живого, и только легкий желтоватый налет, как в копченом мясе, говорит о смерти. Мне хочется отодвинуться от него, но нет сил, и, покачиваясь, я смотрю на бесконечно идущие, призрачные покачивающиеся ряды. По состоянию моей головы я знаю, что и у меня сейчас будет солнечный удар, но жду этого спокойно, как во сне; где смерть является только этапом на пути чудесных и запутанных видений.
И я вижу, как из толпы выделяется солдат и решительно направляется в нашу сторону. На минуту он пропадает во рву, а когда вылезает оттуда и снова идет, шаги его нетверды, и что-то последнее чувствуется в его попытках собрать свое разбрасывающееся тело. Он идет так прямо на меня, что сквозь тяжелую дрему, охватившую мозг, я пугаюсь и спрашиваю:
– Чего тебе?
Он останавливается, как будто ждал только слова, и стоит огромный, бородатый, с разорванным воротом. Ружья у него нет, штаны держатся на одной пуговице, и сквозь прореху видно белое тело. Руки и ноги его разбросаны, и он, видимо, старается собрать их, но не сможет: сведет руки и они тотчас распадутся.
– Ты что? Ты лучше сядь, – говорю я.
Но он стоит, безуспешно подбираясь, молчит и смотрит на меня. И я невольно поднимаюсь с камня и, шатаясь, смотрю в его глаза – и вижу в них бездну ужаса и безумия. У всех зрачки сужены – а у него расплылись они во весь глаз; какое море огня должен видеть он сквозь эти огромные черные окна! Быть может, мне показалось, быть может, в его взгляде была только смерть, – но нет, я не ошибаюсь: в этих черных, бездонных зрачках, обведенных узеньким оранжевым кружком, как у птиц, было больше, чем смерть, больше, чем ужас смерти.
– Уходи! – кричу я, отступая. – Уходи!
И как будто он ждал только слова – он падает на меня, сбивая меня с ног, все такой же огромный, разбросанный и безгласный. Я с содроганием освобождаю придавленные ноги, вскакиваю и хочу бежать – куда-то в сторону от людей, в солнечную, безлюдную, дрожащую даль, когда слева, на вершине, бухает выстрел и за ним немедленно, как эхо, два других. Где-то над головою, с радостным, многоголосым визгом, криком и воем проносится граната.
Нас обошли!
Нет уже более смертоносной жары, ни этого страха, ни усталости. Мысли мои ясны, представления отчетливы и резки; когда, запыхавшись, я подбегаю к выстраивающимся рядам, я вижу просветлевшие, как будто радостные лица, слышу хриплые, но громкие голоса, приказания, шутки. Солнце точно взобралось выше, чтобы не мешать, потускнело, притихло – и снова с радостным визгом, как ведьма, резнула воздух граната.
Я подошел.
Отрывок второй
…почти все лошади и прислуга. На восьмой батарее так же. На нашей, двенадцатой, к концу третьего дня осталось только три орудия – остальные подбиты, – шесть человек прислуги и один офицер – я. Уже двадцать часов мы не спали и ничего не ели, трое суток сатанинский грохот и визг окутывал нас тучей безумия, отделял нас от земли, от неба, от своих, – и мы, живые, бродили – как лунатики. Мертвые, те лежали спокойно, а мы двигались, делали свое дело, говорили и даже смеялись, и были – как лунатики. Движения наши были уверенны и быстры, приказания ясны, исполнение точно – но если бы внезапно спросить каждого, кто он, он едва ли бы нашел ответ в затемненном мозгу. Как во сне, все лица казались давно знакомыми, и все, что происходило, казалось также давно знакомым, понятным, уже бывшим когда-то; а когда я начинал пристально вглядываться в какое-нибудь лицо или в орудие или слушал грохот – все поражало меня своей новизною и бесконечной загадочностью. Ночь наступала незаметно, и не успевали мы увидеть ее и изумиться, откуда она взялась, как уже снова горело над нами солнце. И только от приходивших на батарею мы узнавали, что бой вступает в третьи сутки, и тотчас же забывали об этом: нам чудилось, что это идет все один бесконечный, безначальный день, то темный, то яркий, но одинаково непонятный, одинаково слепой. И никто из нас не боялся смерти, так как никто не понимал, что такое смерть.
На третью или на четвертую ночь, я не помню, на одну минуту я прилег за бруствером, и, как только закрыл глаза, в них вступил тот же знакомый и необыкновенный образ: клочок голубых обоев и нетронутый запыленный графин на моем столике. А в соседней комнате – и я их не вижу – находятся будто бы жена моя и сын. Но только теперь на столе горела лампа с зеленым колпаком, значит, был вечер или ночь. Образ остановился неподвижно, и я долго и очень спокойно, очень внимательно рассматривал, как играет огонь в хрустале графина, разглядывал обои и думал, почему не спит сын; уже ночь, и ему пора спать. Потом опять разглядывал обои, все эти завитки, серебристые цветы, какие-то решетки и трубы, – я никогда не думал, что так хорошо знаю свою комнату. Иногда я открывал глаза и видел черное небо с какими-то красивыми огнистыми полосами, и снова закрывал их, и снова разглядывал обои, блестящий графин, и думал, почему не спит сын: уже ночь, и ему надо спать. Раз недалеко от меня разорвалась граната, колыхнув чем-то мои ноги, и кто-то крикнул громко, громче самого взрыва, и я подумал: «Кто-то убит!» – но не поднялся и не оторвал глаз от голубеньких обоев и графина.
Потом я встал, ходил, распоряжался, глядел в лица, наводил прицел, а сам все думал: отчего не спит сын? Раз спросил об этом у ездового, и он долго и подробно объяснял мне что-то, и оба мы кивали головами. И он смеялся, а левая бровь у него дергалась, и глаз хитро подмаргивал на кого-то сзади. А сзади видны были подошвы чьих-то ног – и больше ничего. В это время было уже светло, и вдруг – капнул дождь. Дождь – как у нас, самые обыкновенные капельки воды. Он был так неожидан и неуместен, и мы все так испугались промокнуть, что бросили орудия, перестали стрелять и начали прятаться куда попало. Ездовой, с которым мы только что говорили, полез под лафет и прикорнул там, хотя его могли каждую минуту задавить, толстый фейерверкер стал зачем-то раздевать убитого, а я заметался по батарее и что-то искал – не то плащ, не то зонтик. И сразу на всем огромном пространстве, где капнул дождь из набежавшей тучи, наступила необыкновенная тишина. Запоздало взвизгнула и разорвалась шрапнель, и тихо стало – так тихо, что слышно было, как сопит толстый фейерверкер и стекают по камню и по орудиям капельки дождя. И этот тихий и дробный стук, напоминающий осень и запах взмоченной земли, и тишина – точно разорвали на мгновение кровавый и дикий кошмар, и, когда я взглянул на мокрое, блестящее от воды орудие, оно неожиданно и странно напомнило что-то милое, тихое, не то детство мое, не то первую любовь. Но вдалеке особенно громко прозвучал первый выстрел, и исчезло очарование мгновенное тишины; с той же внезапностью, с какою люди прятались, они начали вылезать из-под своих прикрытий; на кого-то закричал толстый фейерверкер; грохнуло орудие, за ним второе, снова кровавый неразрывный туман заволок измученные мозги. И никто не заметил, когда прекратился дождь; помню только, что с убитого фейерверкера, с его толстого обрюзгшего желтого лица скатывалась вода, – вероятно, дождь продолжался довольно долго.
…Передо мною стоял молоденький вольноопределяющийся и докладывал, держа руку к козырьку, что генерал просит нас удержаться только два часа, а там подойдет подкрепление. Я думал о том, почему не спит мой сын, и отвечал, что могу продержаться сколько угодно. Но тут меня почему-то заинтересовало его лицо, вероятно, своею необыкновенной и поразительной бледностью. Я ничего не видел белее этого лица: даже у мертвых больше краски в лице, чем на этом молоденьком, безусом. Должно быть, по дороге к нам он сильно перепугался и не мог оправиться; и руку у козырька он держал затем, чтобы этим привычным и простым движением отогнать сумасшедший страх.
– Вы боитесь? – спросил я, трогая его за локоть. Но локоть был как деревянный, а сам он тихонько улыбался и молчал. Вернее, дергались в улыбке только его губы, а в глазах были только молодость и страх – и больше ничего. – Вы боитесь? – повторил я ласково.
Губы его дергались, силясь выговорить слово, и в то же мгновение произошло что-то непонятное, чудовищное, сверхъестественное. В правую щеку мне дунуло теплым ветром, сильно качнуло меня – и только, а перед моими глазами на месте бледного лица было что-то короткое, тупое, красное, и оттуда лила кровь, словно из откупоренной бутылки, как их рисуют на плохих вывесках. И в этом коротком, красном, текущем продолжалась еще какая-то улыбка, беззубый смех – красный смех.
Я узнал его, этот красный смех. Я искал и нашел его, этот красный смех. Теперь я понял, что было во всех этих изуродованных, разорванных, странных телах. Это был красный смех. Он в небе, он в солнце, и скоро он разольется по всей земле, этот красный смех!
А они, отчетливо и спокойно, как лунатики…
Отрывок третий
…безумие и ужас.
Рассказывают, что в нашей и неприятельской армии появилось много душевнобольных. У нас уже открыто четыре психиатрических покоя. Когда я был в штабе, адъютант показывал мне…
Отрывок четвертый
…обвивались, как змеи. Он видел, как проволока, обрубленная с одного конца, резнула воздух и обвила трех солдат. Колючки рвали мундиры, вонзались в тело, и солдаты с криком бешено кружились, и двое волокли за собою третьего, который был уже мертв. Потом остался в живых один, и он отпихивал от себя двух мертвецов, а те волоклись, кружились, переваливались один через другого и через него, – и вдруг сразу все стали неподвижны.
Он говорил, что у одной этой загородки погибло не менее двух тысяч человек. Пока они рубили проволоку и путались в ее змеиных извивах, их осыпали непрерывным дождем пуль и картечи. Он уверяет, что было очень страшно и что эта атака кончилась бы паническим бегством, если бы знали, в каком направлении бежать. Но десять или двенадцать непрерывных рядов проволоки и борьба с нею, целый лабиринт волчьих ям, с набитыми на дне кольями так закружили головы, что положительно нельзя было определить направления.
Одни, точно сослепу, обрывались в глубокие воронкообразные ямы и повисали животами на острых кольях, дергаясь и танцуя, как игрушечные паяцы; их придавливали новые тела, и скоро вся яма до краев превращалась в копошащуюся груду окровавленных живых и мертвых тел. Отовсюду снизу тянулись руки, пальцы на них судорожно сокращались, хватая все, и кто попадал в эту западню, тот уже не мог выбраться назад: сотни пальцев, крепких и слепых, как клешни, сжимали ноги, цеплялись за одежду, валили человека на себя, вонзались в глаза и душили. Многие, как пьяные, бежали прямо на проволоку, повисали на ней и начинали кричать, пока пуля не кончала с ними.
Вообще все показались ему похожими на пьяных: некоторые страшно ругались, другие хохотали, когда проволока схватывала их за руку или за ногу, и тут же умирали. Он сам, хотя с утра ничего не пил и не ел, чувствовал себя очень странно: голова кружилась, и страх минутами сменялся диким восторгом – восторгом страха. Когда кто-то рядом с ним запел, он подхватил песню, и скоро составился целый, очень дружный хор. Он не помнит, что пели, но что-то очень веселое, плясовое. Да, они пели – и все кругом было красно от крови. Само небо казалось красным, и можно было подумать, что во вселенной произошла какая-то катастрофа, какая-то странная перемена и исчезновение цветов: исчезли голубой и зеленый и другие привычные и тихие цвета, а солнце загорелось красным бенгальским огнем.
– Красный смех, – сказал я.
Но он не понял.
– Да, и хохотали. Я уже говорил тебе. Как пьяные. Может быть, даже и плясали, что-то было. По крайней мере, движения тех трех походили на пляску.
Он ясно помнит: когда его ранили в грудь навылет и он упал, еще некоторое время, до потери сознания, он подпрыгивал ногами, как будто кому подтанцовывал. И теперь он вспомнил об этой атаке со странным чувством: отчасти со страхом, отчасти как будто с желанием еще раз испытать то же самое.
– И опять пулю в грудь? – спросил я.
– Ну вот: не каждый же раз пулю. А хорошо бы, товарищ, получить орден за храбрость.
Он лежал на спине, желтый, остроносый, с выступающими скулами и провалившимися глазами, – лежал, похожий на мертвеца, и мечтал об ордене. У него уже начался гнойник, был сильный жар, и через три дня его должны будут свалить в яму, к мертвым, а он лежал, улыбался мечтательно и говорил об ордене.
– А матери послал телеграмму? – спросил я.
Он испуганно, но сурово и злобно взглянул на меня и не ответил. И я замолчал, и слышно стало, как стонут и бредят раненые. Но, когда я поднялся уходить, он сжал мою руку своею горячею, но все еще сильною рукою и растерянно и тоскливо впился в меня провалившимися горящими глазами.
– Что же это такое, а? Что же это? – пугливо и настойчиво спрашивал он, дергая мою руку.
– Да вообще… все это. Ведь она ждет меня? Не могу же я. Отечество – разве ей втолкуешь, что такое отечество?
– Красный смех, – ответил я.
– Ах! Ты все шутишь, а я серьезно. Необходимо объяснить, а разве ей объяснишь? Если бы ты знал, что она пишет! Что она пишет! И ты не знаешь, у нее слова – седые. А ты… – Он с любопытством посмотрел на мою голову, ткнул пальцем и, неожиданно засмеявшись, сказал: – А ты полысел. Ты заметил?
– Тут нет зеркал.
– Тут много седых и лысых. Послушай, дай мне зеркало. Дай! Я чувствую, как из головы идут белые волосы. Дай зеркало!
У него начинался бред, он плакал и кричал, и я ушел из лазарета.
В этот вечер мы устроили себе праздник – печальный и странный праздник, на котором среди гостей присутствовали тени умерших. Мы решили собраться вечером и попить чаю, как дома, как на пикнике, и мы достали самовар, и достали даже лимон и стаканы, и устроились под деревом – как дома, как на пикнике. По одному, по два, по три собирались товарищи и подходили шумно, с разговорами, с шуткой, полные веселого ожидания, но скоро умолкли, избегая смотреть друг на друга, ибо что-то странное было в этом сборище уцелевших людей. Оборванные, грязные, почесывавшиеся, как в жестокой чесотке, заросшие волосами, худые и истощенные, потерявшие знакомое и привычное обличье, мы точно сейчас только, за самоваром, увидели друг друга – увидели и испугались. Я тщетно искал в этой толпе растерянных людей знакомые лица – и не мог найти. Эти люди, беспокойные, торопливые, с толчкообразными движениями, вздрагивающие при каждом стуке, постоянно ищущие чего-то позади себя, старающиеся избытком жестикуляции заполнить ту загадочную пустоту, куда им страшно заглянуть, – были новые, чужие люди, которых я не знал. И голоса звучали по-иному, отрывисто, толчками, с трудом выговаривая слова и легко, по ничтожному поводу, переходя в крик или бессмысленный, неудержимый смех. И все было чужое. Дерево было чужое, и закат чужой, и вода чужая, с особым запахом и вкусом, как будто вместе с умершими мы оставили землю и перешли в какой-то другой мир – мир таинственных явлений и зловещих пасмурных теней. Закат был желтый, холодный; над ним тяжело висели черные, ничем не освещенные, неподвижные тучи, и земля под ним была черна, и наши лица в этом зловещем свете были желты, как лица мертвецов. Мы все смотрели на самовар, а он потух, отразил на боках своих желтизну и угрозу заката и тоже стал чужой, мертвый, непонятный.
Кто-то вздохнул. Кто-то судорожно хрустнул пальцами, кто-то засмеялся, кто-то вскочил и быстро заходил вокруг стола. Теперь часто можно было встретить этих быстро расхаживающих, почти бегающих людей, иногда странно молчаливых, иногда странно бормотавших что-то.
– На войне, – ответил тот, что смеялся, и снова захохотал глухим, длительным смехом, точно он давился чем-то.
– Чего он хохочет? – возмутился кто-то. – Послушайте, перестаньте!
Тот еще раз подавился, хихикнул и послушно смолк. Темнело, туча наседала на землю, и мы с трудом различали желтые, призрачные лица друг друга. Кто-то спросил:
– А где же Ботик?
«Ботик» – так звали мы товарища, маленького офицера в больших непромокаемых сапогах.
– Он сейчас был здесь. Ботик, где вы?
– Ботик, не прячьтесь! Мы слышим, как пахнет вашими сапогами.
Все засмеялись, и, перебивая смех, из темноты прозвучал грубый негодующий голос:
– Перестаньте, как не стыдно. Ботик убит сегодня утром на разведке.
– Он только сейчас был здесь. Это ошибка.
– Вам показалось. Эй, за самоваром, скорей отрежьте мне лимона.
– И мне! И мне!
– Лимон весь.
– Что же это, господа, – с тоскою, почти плача, прозвучал тихий и обиженный голос. – А я только ради лимона и пришел.
Тот снова захохотал глухо и длительно, и никто не стал его останавливать. Но скоро умолк. Хихикнул еще раз – и замолчал. Кто-то сказал:
– Завтра наступление.
– Оставьте! Какое там наступление!
– Вы же сами знаете…
– Оставьте. Разве нельзя говорить о другом. Что же это!
Закат погас. Туча поднялась, и как будто стало светлее, и лица стали знакомые, и тот, что кружился вокруг нас, успокоился и сел.
– Как-то теперь дома? – неопределенно спросил он, и в голосе его слышна была виноватая в чем-то улыбка.
И снова стало страшно, и непонятно, и чуждо все – до ужаса, почти до потери сознания. И мы все сразу заговорили, закричали, засуетились, двигая стаканами, трогая друг друга за плечи, за руки, за колена – и сразу замолчали, уступая непонятному.
– Дома? – закричал кто-то из темноты. Голос его был хрипл от волнения, от испуга, от злобы и дрожал. И некоторые слова у него не выходили, как будто он разучился их говорить. – Дома? Какой дом, разве где-нибудь есть дома? Не перебивайте меня, иначе я начну стрелять. Дома я каждый день брал ванны – понимаете, ванны с водой – с водой по самые края. А теперь я не каждый день умываюсь, и на голове у меня струпья, какая-то парша, и все тело чешется, и по телу ползают, ползают… Я с ума схожу от грязи, а вы говорите – дом! Я как скот, я презираю себя, я не узнаю себя, и смерть вовсе не так страшна. Вы мне мозг разрываете вашими шрапнелями, мозг! Куда бы ни стреляли, мне все попадает в мозг, – вы говорите – дом. Какой дом? Улица, окна, люди, а я не пошел бы теперь на улицу – мне стыдно. Вы принесли самовар, а мне на него стыдно было смотреть. На самовар.
Тот снова засмеялся. Кто-то крикнул:
– Это черт знает что. Я пойду домой.
– Вы не понимаете, что такое дом!..
– Домой? Слушайте: он хочет домой!
Поднялся общий смех и жуткий крик – и снова все замолчали, уступая непонятному. И тут не я один, а все мы, сколько нас ни было, почувствовали это. Оно шло на нас с этих темных, загадочных и чуждых полей; оно поднималось из глухих черных ущелий, где, быть может, еще умирают забытые и затерянные среди камней, оно лилось с этого чуждого, невиданного неба. Молча, теряя сознание от ужаса, стояли мы вокруг потухшего самовара, а с неба на нас пристально и молча глядела огромная бесформенная тень, поднявшаяся над миром. Внезапно, совсем близко от нас, вероятно, у полкового командира, заиграла музыка, и бешено-веселые, громкие звуки точно вспыхнули среди ночи и тишины. С бешеным весельем и вызовом играла она, торопливая, нестройная, слишком громкая, слишком веселая, и видно было, что и те, кто играет, и те, кто слушает, видят так же, как мы, эту огромную бесформенную тень, поднявшуюся над миром. А тот в оркестре, что играл на трубе, уже носил, видимо, в себе, в своем мозгу, в своих ушах, эту огромную молчаливую тень. Отрывистый и ломаный звук метался, и прыгал, и бежал куда-то в сторону от других – одинокий, дрожащий от ужаса, безумный. И остальные звуки точно оглядывались на него; так неловко, спотыкаясь, падая и поднимаясь, бежали они разорванной толпою, слишком громкие, слишком веселые, слишком близкие к черным ущельям, где еще умирали, быть может, забытые и потерянные среди камней люди.
И долго стояли мы вокруг потухшего самовара и молчали.
Отрывок пятый
…я уже спал, когда доктор разбудил меня осторожными толчками. Я вскрикнул, просыпаясь и вскакивая, как вскрикивали мы все, когда нас будили, и бросился к выходу из палатки. Но доктор крепко держал меня за руку и извинялся:
– Я вас испугал, простите. И знаю, что вы хотите спать…
– Пять суток… – пробормотал я, засыпая, и заснул и спал, казалось мне, долго, когда доктор вновь заговорил, осторожно подталкивая меня в бока и ноги.
– Но очень нужно. Голубчик, пожалуйста, так нужно. Мне все кажется… Я не могу. Мне все кажется, что там еще остались раненые…
– Какие раненые? Вы же весь день их возили. Оставьте меня в покое. Это нечестно, я пять суток не спал!
– Голубчик, не сердитесь, – бормотал доктор, неловко надевая фуражку мне на голову. – Все спят, нельзя добудиться. Я достал паровоз и семь вагонов, но нам нужны люди. Я ведь понимаю… Я сам боюсь заснуть. Не помню, когда я спал. Кажется, у меня начинаются галлюцинации. Голубчик, спустите ножки, ну, одну ножку, ну, так, так…
Доктор был бледен и покачивался, и заметно было, что если он только приляжет – он заснет на несколько суток кряду. И подо мною подгибались ноги, и я уверен, что я заснул, пока мы шли, – так внезапно и неожиданно, неизвестно откуда, вырос перед нами ряд черных силуэтов – паровоз и вагоны. Возле них медленно и молча бродили какие-то люди, едва видимые в потемках. Ни на паровозе, ни в вагонах не было ни одного фонаря, и только от закрытого поддувала на полотно ложился красноватый неяркий свет.
– Что это? – спросил я, отступая.
– Ведь мы же едем. Вы забыли? Мы едем, – бормотал доктор.
Ночь была холодная, и он дрожал от холода, и, глядя на него, я почувствовал во всем теле ту же частую щекочущую дрожь.
– Черт вас знает! – закричал я громко. – Не могли вы взять другого…
– Тише, пожалуйста, тише! – Доктор схватил меня за руку.
Кто-то из темноты сказал:
– Теперь дай залп из всех орудий, так никто не шевельнется. Они тоже спят. Можно подойти и всех сонных перевязать. Я сейчас прошел мимо самого часового. Он посмотрел на меня и ничего не сказал, не шевельнулся. Тоже спит, вероятно. И как только он не упадет.
Говоривший зевнул, и одежда его зашуршала: видимо, он потягивался. Я лег грудью на край вагона, чтобы влезть, – и сон тотчас же охватил меня. Кто-то приподнял меня сзади и положил, а я почему-то отпихивал его ногами – и опять заснул, и точно во сне слышал обрывки разговора:
Конец ознакомительного фрагмента.
Это, вероятно, одно из самых ярких произведений об ужасах войны за всю историю мировой литературы. Бессмысленность и безумие кровавой бойни вторгаются в жизнь людей с такой яростью, что обретают наконец физическое воплощение. Жуткие сюрреалистические образы создают впечатление незабываемое. В начале прошлого века повесть вызвала немалый резонанс, оказала серьёзное влияние на русскую литературу того времени, появились даже откровенные «перепевы» повести, например, «Хохот жёлтого дьявола» Антона Сорокина, где влияние Андреева очень заметно. А в конце века «Красный смех» продолжил «гулять по стране» в одноимённой песне Егора Летова.
Оценка: 10
«Да, кажется, это были наши, - и нашей гранатой, пущенной из нашей пушки нашим солдатом, оторвало мне ноги. И никто не мог объяснить, как это случилось».
«…безумие и ужас». Именно с этих слов начинается «Красный смех» Леонида Андреева и именно этими словами вкратце можно описать данную повесть. Ужас войны, кровавым светом входящий в измученный мозг людей и молчаливое безумие, заражающее быстрее любого смертоносного вируса. Да и сравнение с вирусом не совсем корректно. От него хотя бы можно убежать или спрятаться, а как можно спрятаться от собственных мыслей, не способных понять и принять первобытное желание убивать подобных себе? Когда две армии организованно выстраиваются одна напротив другой с единственной целью и цель эта далека от цветов и песен, эта цель древнее всего, что знает человечество. Это как оскал белоснежного черепа, скрытый за розовой плотью и тонкой кожей. Можно сколько угодно рядиться в цивилизованные одежды, но нашей внутренней сути это не изменить. И вот уже солдаты начинают убивать своих же соратников, ведь враг далеко, а так хочется искупаться в красном вине и нет сил избежать сладостной дрожи в руках, когда перерезаешь горло спящим.
Каждая строчка повести пропитана невыносимым страхом и чем-то ещё, что можно назвать безумием, но одно-единственное слово не способно передать всех ощущений от прочтения. Мне приходилось читать «Красный смех» небольшими порциями, заставляя себя, перебарывая внутреннее сопротивление. Это как погружаться на дно водоёма, воздух рано или поздно закончится и нужно подняться наверх, чтобы сделать новый глоток, а потом снова вниз, не зная зачем. Мозг отказывался принимать, что кто-то мог такое пережить или представить. Все слова стоят на своих местах и кричат от ужаса, они хотят уйти, им горестно быть частью чего-то настолько противоестественного. По впечатлениям повесть больше всего похожа на фильм «Иди и смотри» Элема Климова. То же желание послать всё к чёртовой матери и оторвать свои глаза от этого ужасающего зрелища. Но что-то всё равно заставляет смотреть или читать. Что-то, что выше моих сил.
Оценка: 9
Первый раз прочитал эту вещь, учась в 11 классе, пару раз перечитывал в студенческие годы, и вот перечитал в рамках изучения «399 темных рассказов» в авторской колонке Вертера де Гете.
При первом прочтении помню крайне тягостное впечатление. Нереально жуткие картины, похожие на страшные сны вперемешку с натуралистичными ужасами войны. Сюрреализм в чистом виде, где грань между реальностью и бредовым кошмаром – кажущаяся. Извращенная логика, нечеловеческой напряженности эмоции, окружающий и нарастающий хаос – полная картина гибели мира. Повесть тогда внушила отвращение, но в то же время отдельные, наиболее жуткие отрывки, в особенности финал, так и притягивали их перечитать, засев в воображении больным зубом, до которого хочется дотронуться языком – чтобы не впасть в самообман, что боль ушла навсегда.
Позднее, конечно, впечатления сгладились – и сам повзрослел, и знал, чего ожидать от этой книги. Но атмосфера безумия по-прежнему воспринимается очень сильно. Мистические «ужастики» так напугать не могут. Даже «Елеазар» того же Андреева, при всей своей философской глубине исследований восприятия человеком своей смертности, куда как меньше давит на психику.
Что же такое Красный смех? Это цвет опасности, открытых ран, пожаров. Это кровь мира, убивающего себя руками людей. Которые почему-то не хотят остановиться, на каждой развилке истории сворачивая в сторону все большего и большего безумия. Это смех сумасшедшего, который радуется хаосу, смерти и безумию, потому что кроме них не осталось ничего.
Повесть многие упрекали в пафосности, доведении до абсурда. До сих пор ходят слухи, что якобы Лев Толстой (знающий, что такое война на своем опыте), презрительно отнесся к «Красному смеху» (на самом деле – рекомендовал к чтению). Да, до реализма этому произведению далеко – иначе бы человечество уже погибло. Но вот что интересно – сюрреалистические кошмары Андреева не менее страшны, чем натуралистичные описания войны, а может быть, и более, если это возможно.
Не буду долго писать банальности о пророческом даре автора – год написания повести говорит сам за себя. В этом-то, и причина насмешек современников – Андреев писал о будущем, которого боялся. И после двух мировых войн вряд ли найдется много читателей, которые сочтут «Красный смех» забавным преувеличением.
Итог: одна из самых страшных антивоенных книг в истории литературы.
Оценка произведению: 9 из 10 (отлично).
Оценка «страшности»: 5 из 5 (шокирует).
Оценка: 9
Наверное, сначала стоит сказать, что вообще-то творчество Леонида Андреева не вызывает у меня восторга. Все, что ни читал до этой повести, оказывалось хорошо написанной литературой, но не в моем вкусе. Читал-то я не то чтобы много, но достаточно, чтобы осознать, что к творчеству автора стоит подходить осторожно.
С повестью же «Красный смех» я решил познакомиться, потому что это - один из столпов отечественной литературы ужасов, как мне удалось выяснить. Это произведение - единственное из русской литературы, что выдает поиск по жанру на фантлабе в первой пятидесятке лучших из лучших (кроме разве что «Семьи вурдалака» А. К. Толстого, ну, и «Дикой охоты короля Стаха» В. Короткевича).
Довольно сложно передать те мысли и чувства, которые вызвала к жизни эта повесть. Но некоторые ощущения были очень сильны. Поэтому-то они и сохранились по прошествии времени (повесть я читал не только что).
Во-первых, это чувство отвращения к войне - к этому автор стремился и блестяще справился с задачей! - а во-вторых, ощущение страха вперемешку с восторгом от замечательной прозы! Это сюрреалистическое повествование, которое ведут два рассказчика, настолько ярко, насыщенно, что некоторые картины до сих пор так и стоят перед глазами! Принимали или не принимали люди участие в военных действиях - ко всем является Красный смех, никого он не минует. Этот образ вобрал в себя все, во имя противления чему и было написано данное произведение. Красный смех - все то, с чем приходится столкнуться в эти ужасные дни людям. И не каждый выдерживает это противостояние...
Сейчас вот любят иногда поговорить о судьбах русского хоррора, о том, существовал ли он когда-либо вообще... А он был! И лучшие его образцы, по-моему, созданы как раз в конце XIX - начале XX вв. И это по большому счету были все же наши, оригинальные вещи, не копирующие слепо иноземные образцы. И вот - одно из подтверждений этой мысли.
Но, безусловно, «Красный смех» - это не только и не столько русская литература ужасов. Это просто Русская Литература.
Как там было? «Я писал великое, я писал бессмертное - цветы и песни. Цветы и песни...»
Оценка: 10
Оценка: 10
Первоначально во время чтения возникло ощущение, что речь идет о первой мировой войне – очень уж велики масштабы описанных в повести военных действий. Однако год написания – 1904 – показал, что произведение стало своего рода пророчеством, взглядом в будущее, когда в угаре кровавого безумия, навеянного войной, погибла привычная для современников российская действительность.
Несмотря на то, что автор не мог видеть таких войн, да и, судя по биографии, вообще в войнах не участвовал, описание психологической ломки не только человека, но и огромной массы народа одновременно, во многом предвосхитило те проблемы, с которыми мы столкнулись немного позже, проблемы, несомненно оказавшие влияние на наше современное общество.
Читая повесть поневоле проникаешься миазмами ужаса, подступающего безумия, которое просто сочится со страниц книги, заволакивает мозг и позволяет представить во всех красках описываемые сцены, главный герой которых – красный смех, подчиняющий, ломающий и калечащий души… Примечательно, что автор не стал останавливаться на описании постепенно застилающего разум сумасшествия простого офицера, а показал, как ужас окружающих людей, их безумие и навязчивая одержимость постепенно проникают в сознание еще здоровых людей, не отравленных кровавыми картинами бесчеловечной войны, – родственников, близких, и неизбежно их разрушает, превращая в таких же калек, как и вернувшиеся ветераны.
«Красный смех» несомненно является ярким и проникающим в самую душу представителем великолепной антивоенной и психологической прозы, развенчивающий сложившийся в то время образ романтической войны.
Оценка: 9
Интересовались ли вы когда-нибудь, какого цвета мог бы быть смех? Ведь смех не имеет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, но когда он приходит в вашу жизнь, тогда насыщает ее красками. В русском языке присутствует множество устойчивых идиом и фразеологизмов, связанных с цветом, если задуматься.
Зеленый смех, вероятно, рождается на устах младенца в значении нового начала, просыпающейся к новой жизни весенней природы. Синий цвет мог бы означать депрессивную ухмылку смирения с неизбежностью, серый - застенчивую улыбку скрытого могущества, розовый - наивное веселье безмятежности. Черный цвет однозначно представляется сатирической насмешкой, а белый смех наверняка искренний и громкий, как крепкое рукопожатие...
Ничего такого в этой повести вы не увидите и не услышите, ибо она написана исключительно красным смехом цвета крови, срывающейся с потрескавшихся губ, цвета безумия и ужаса, гипертрофированной страсти.
Писатель использует мрачные сюрреалистические образы, чтобы показать войну, как вирус, заражающий все население, пугающий больше чумы, ведь от него не убежать и не отмыться. Изнанка военных сражений, рассмотренная под увеличительным стеклом, заражает читателя вшами и сумасшествием. Автор, как хирург, наносит разрез за разрезом на тело самого понятия войны, выпуская в мир потроха эмоций. Красный цвет в совершенном отсутствии других цветов, как победитель, пишет историю багровыми чернилами и украшает ее орнаментом внутренностей...
Безумие - это болезнь души, и повесть Андреева демонстрирует лучшие образчики этой болезни. То есть писатель не просто плескает на страницы ужас, но заглядывает в голову душевнобольного и открывает его мир для читателя. И этот мир, сложившийся в условиях неверного, по мнению автора, взгляда на жизнь и отношения к войне, поистине страшен.
Несомненно, автору удалось впечатлить мрачными образами, мастерской работой с русским языком, посадить в голове зерно идеологических сомнений и показать богатство оттенков красного цвета. Ложкой дегтя стал вопрос - чем бы мы ответили французам и фашистам, если бы послушались призыва, накопали ям и похоронили оружие в том далеком 1904 году? Не жестоко ли по отношению к детям, женам и матерям, нуждающимся в защите, идти на войну с кулаками, камнями да палками? Или вообще не идти?
Оценка: 9
Сильное произведение.
Красный смех - это обнаженный ужас, который не ограничен какими-то рамками, глухими стенами и защитными рвами. Это всепоглощаяющий страх и массовое безумие, которое неумолимо заполняет пространство сознания, пожирая разум, как свет пожирает тьму, врываясь в распахнутое окно. Красный смех - это муки, безумие Земли, которая не может оправиться от безумных войн, бессмысленного самоубийства человечества. Содрогаясь, ворочаясь, обливаясь жарким потом, она раскаляется, как железо в горниле, изжаривая всех, кто ступает по ней. Совершенно без разбора: детей, стариков, женщин, мужчин. Красный смех - это сюреалистичная картина ада, которая своей атмосфреностью, мрачной отрешонностью шокирует куда больше, чем картины ада Данте, угнетает сильнее, чем «Крик» Мунка.
«...безумие и ужас. Впервые я почувствовал это, когда мы шли по энской дороге - шли десять часов непрерывно, не замедляя хода, не подбирая упавших и оставляя их неприятелю, который двигался сзади нас и через три-четыре часа стирал следы наших ног своими ногами...»
Рассказчик - молодой литератор, призванный в действующую армию. В знойной степи его преследует видение: клочок старых голубых обоев в его кабинете, дома, и запылённый графин с водой, и голоса жены и сына в соседней комнате. И ещё - как звуковая галлюцинация - преследуют его два слова: «Красный смех».
Куда идут люди? Зачем этот зной? Кто они все? Что такое дом, клочок обоев, графин? Он, измотанный видениями - теми, что перед его глазами, и теми, что в его сознании, - присаживается на придорожный камень; рядом с ним садятся на раскалённую землю другие офицеры и солдаты, отставшие от марша. Невидящие взгляды, неслышащие уши, губы, шепчущие Бог весть что...
Повествование о войне, которое он ведёт, похоже на клочья, обрывки снов и яви, зафиксированные полубезумным рассудком.
Вот - бой. Трое суток сатанинского грохота и визга, почти сутки без сна и пищи. И опять перед глазами - голубые обои, графин с водой... Внезапно он видит молоденького гонца - вольноопределяющегося, бывшего студента: «Генерал просит продержаться ещё два часа, а там будет подкрепление». «Я думал в эту минуту о том, почему не спит мой сын в соседней комнате, и ответил, что могу продержаться сколько угодно...» Белое лицо гонца, белое, как свет, вдруг взрывается красным пятном - из шеи, на которой только что была голова, хлещет кровь...
Вот он: Красный смех! Он повсюду: в наших телах, в небе, в солнце, и скоро он разольётся по всей земле...
Уже нельзя отличить, где кончается явь и начинается бред. В армии, в лазаретах - четыре психиатрических покоя. Люди сходят с ума, как заболевают, заражаясь друг от друга, при эпидемии. В атаке солдаты кричат как бешеные; в перерыве между боями - как безумные поют и пляшут. И дико смеются. Красный смех...
Он - на госпитальной койке. Напротив - похожий на мертвеца офицер, вспоминающий о том бое, в котором получил смертельное ранение. Он вспоминает эту атаку отчасти со страхом, отчасти с восторгом, как будто мечтая пережить то же самое вновь. «И опять пулю в грудь?» - «Ну, не каждый же раз - пуля... Хорошо бы и орден за храбрость!..»
Тот, кто через три дня будет брошен на другие мёртвые тела в общую могилу, мечтательно улыбаясь, чуть ли не посмеиваясь, говорит об ордене за храбрость. Безумие...
В лазарете праздник: где-то раздобыли самовар, чай, лимон. Оборванные, тощие, грязные, завшивевшие - поют, смеются, вспоминают о доме. «Что такое „дом“? Какой „дом“? Разве есть где-нибудь какой-то „дом“?» - «Есть - там, где теперь нас нет». - «А где мы?» - «На войне...»
Ещё видение. Поезд медленно ползёт по рельсам через поле боя, усеянное мертвецами. Люди подбирают тела - тех, кто ещё жив. Тяжело раненным уступают места в телячьих вагонах те, кто в состоянии идти пешком. Юный санитар не выдерживает этого безумия - пускает себе пулю в лоб. А поезд, медленно везущий калек «домой», подрывается на мине: противника не останавливает даже видный издалека Красный Крест...
Рассказчик - дома. Кабинет, синие обои, графин, покрытый слоем пыли. Неужели это наяву? Он просит жену посидеть с сыном в соседней комнате. Нет, кажется, это все-таки наяву.
Сидя в ванне, он разговаривает с братом: похоже, мы все сходим с ума. Брат кивает: «Ты ещё не читаешь газет. Они полны слов о смерти, об убийствах, о крови. Когда несколько человек стоят где-нибудь и о чем-то беседуют, мне кажется, что они сейчас бросятся друг на друга и убьют...»
Рассказчик умирает от ран и безумного, самоубийственного труда: два месяца без сна, в кабинете с зашторенными окнами, при электрическом свете, за письменным столом, почти механически водя пером по бумаге. Прерванный монолог подхватывает его брат: вирус безумия, вселившийся в покойного на фронте, теперь в крови оставшегося жить. Все симптомы тяжкой хвори: горячка, бред, нет уже сил бороться с Красным смехом, обступающим тебя со всех сторон. Хочется выбежать на площадь и крикнуть: «Сейчас прекратите войну - или...»
Но какое «или»? Сотни тысяч, миллионы слезами омывают мир, оглашают его воплями - и это ничего не даёт...
Вокзал. Из вагона солдаты-конвоиры выводят пленных; встреча взглядами с офицером, идущим позади и поодаль шеренги. «Кто этот - с глазами?» - а глаза у него, как бездна, без зрачков. «Сумасшедший, - отвечает конвоир буднично. - Их таких много...»
В газете среди сотен имён убитых - имя жениха сестры. В одночасье с газетой приходит письмо - от него, убитого, - адресованное покойному брату. Мёртвые - переписываются, разговаривают, обсуждают фронтовые новости. Это - реальнее той яви, в которой существуют ещё не умершие. «Воронье кричит...» - несколько раз повторяется в письме, ещё хранящем тепло рук того, кто его писал... Все это ложь! Войны нет! Брат жив - как и жених сестры! Мёртвые - живы! Но что тогда сказать о живых?..
Театр. Красный свет льётся со сцены в партер. Ужас, как много здесь людей - и все живые. А что, если сейчас крикнуть:
«Пожар!» - какая будет давка, сколько зрителей погибнет в этой давке? Он готов крикнуть - и выскочить на сцену, и наблюдать, как они станут давить, душить, убивать друг друга. А когда наступит тишина, он бросит в зал со смехом: «Это потому, что вы убили брата!»
«Потише», - шепчет ему кто-то сбоку: он, видимо, начал произносить свои мысли вслух... Сон, один другого страшнее. В каждом - смерть, кровь, мёртвые. Дети на улице играют в войну. Один, увидев человека в окне, просится к нему. «Нет. Ты убьёшь меня...»
Все чаще приходит брат. А с ним - другие мертвецы, узнаваемые и незнакомые. Они заполняют дом, тесно толпятся во всех комнатах - и нет здесь уже места живым.
…безумие и ужас.
Впервые я почувствовал это, когда мы шли по энской дороге – шли десять часов непрерывно, не останавливаясь, не замедляя хода, не подбирая упавших и оставляя их неприятелю, который сплошными массами двигался сзади нас и через три-четыре часа стирал следы наших ног своими ногами. Стоял зной. Не знаю, сколько было градусов: сорок, пятьдесят или больше; знаю только, что он был непрерывен, безнадежно-ровен и глубок. Солнце было так огромно, так огненно и страшно, как будто земля приблизилась к нему и скоро сгорит в этом беспощадном огне. И не смотрели глаза. Маленький, сузившийся зрачок, маленький, как зернышко мака, тщетно искал тьмы под сенью закрытых век: солнце пронизывало тонкую оболочку и кровавым светом входило в измученный мозг. Но все-таки так было лучше, и я долго, быть может, несколько часов, шел с закрытыми глазами, слыша, как движется вокруг меня толпа: тяжелый и неровный топот ног, людских и лошадиных, скрежет железных колес, раздавливающих мелкий камень, чье-то тяжелое, надорванное дыхание и сухое чмяканье запекшимися губами. Но слов я не слыхал. Все молчали, как будто двигалась армия немых, и, когда кто-нибудь падал, он падал молча, и другие натыкались на его тело, падали, молча поднимались и, не оглядываясь, шли дальше – как будто эти немые были также глухи и слепы. Я сам несколько раз натыкался и падал, и тогда невольно открывал глаза, – и то, что я видел, казалось диким вымыслом, тяжелым бредом обезумевшей земли. Раскаленный воздух дрожал, и беззвучно, точно готовые потечь, дрожали камни; и дальние ряды людей на завороте, орудия и лошади отделились от земли и беззвучно студенисто колыхались – точно не живые люди это шли, а армия бесплотных теней. Огромное, близкое, страшное солнце на каждом стволе ружья, на каждой металлической бляхе зажгло тысячи маленьких ослепительных солнц, и они отовсюду, с боков и снизу забирались в глаза, огненно-белые, острые, как концы добела раскаленных штыков. А иссушающий, палящий жар проникал в самую глубину тела, в кости, в мозг, и чудилось порою, что на плечах покачивается не голова, а какой-то странный и необыкновенный шар, тяжелый и легкий, чужой и страшный.
И тогда – и тогда внезапно я вспомнил дом: уголок комнаты, клочок голубых обоев и запыленный нетронутый графин с водою на моем столике – на моем столике, у которого одна ножка короче двух других и под нее подложен свернутый кусочек бумаги. А в соседней комнате, и я их не вижу, будто бы находятся жена моя и сын. Если бы я мог кричать, я закричал бы – так необыкновенен был этот простой и мирный образ, этот клочок голубых обоев и запыленный, нетронутый графин.
Знаю, что я остановился, подняв руки, но кто-то сзади толкнул меня; я быстро зашагал вперед, раздвигая толпу, куда-то торопясь, уже не чувствуя ни жара, ни усталости. И я долго шел так сквозь бесконечные молчаливые ряды, мимо красных, обожженных затылков, почти касаясь бессильно опущенных горячих штыков, когда мысль о том, что же я делаю, куда иду так торопливо, – остановила меня. Так же торопливо повернул в сторону, пробился на простор, перелез какой-то овраг и озабоченно сел на камень, как будто этот шершавый, горячий камень был целью всех моих стремлений.
И тут впервые я почувствовал это. Я ясно увидел, что эти люди, молчаливо шагающие в солнечном блеске, омертвевшие от усталости и зноя, качающиеся и падающие, что это безумные. Они не знают, куда они идут, они не знают, зачем это солнце, они ничего не знают. У них не голова на плечах, а странные и страшные шары. Вот один, как и я, торопливо пробирается сквозь ряды и падает; вот другой, третий. Вот поднялась над толпою голова лошади с красными безумными глазами и широко оскаленным ртом, только намекающим на какой-то страшный и необыкновенный крик, поднялась, упала, и в этом месте на минуту сгущается народ, приостанавливается, слышны хриплые, глухие голоса, короткий выстрел, и потом снова молчаливое, бесконечное движение. Уже час сижу я на этом камне, а мимо меня все идут, и все так же дрожит земля, и воздух, и дальние призрачные ряды. Меня снова пронизывает иссушающий зной, и я уже не помню того, что представилось мне на секунду, а мимо меня все идут, идут, и я не понимаю, кто это. Час тому назад я был один на этом камне, а теперь уже собралась вокруг меня кучка серых людей: одни лежат и неподвижны, быть может, умерли; другие сидят и остолбенело смотрят на проходящих, как и я. У одних есть ружья, и они похожи на солдат; другие раздеты почти догола, и кожа на теле так багрово-красна, что на нее не хочется смотреть. Недалеко от меня лежит кто-то голый спиной кверху. По тому, как равнодушно уперся он лицом в острый и горячий камень, по белизне ладони опрокинутой руки видно, что он мертв, но спина его красна, точно у живого, и только легкий желтоватый налет, как в копченом мясе, говорит о смерти. Мне хочется отодвинуться от него, но нет сил, и, покачиваясь, я смотрю на бесконечно идущие, призрачные покачивающиеся ряды. По состоянию моей головы я знаю, что и у меня сейчас будет солнечный удар, но жду этого спокойно, как во сне, где смерть является только этапом на пути чудесных и запутанных видений.
И я вижу, как из толпы выделяется солдат и решительно направляется в нашу сторону. На минуту он пропадает во рву, а когда вылезает оттуда и снова идет, шаги его нетверды, и что-то последнее чувствуется в его попытках собрать свое разбрасывающееся тело. Он идет так прямо на меня, что сквозь тяжелую дрему, охватившую мозг, я пугаюсь и спрашиваю:
– Чего тебе?
Он останавливается, как будто ждал только слова, и стоит огромный, бородатый, с разорванным воротом. Ружья у него нет, штаны держатся на одной пуговице, и сквозь прореху видно белое тело. Руки и ноги его разбросаны, и он, видимо, старается собрать их, но не может: сведет руки, и они тотчас распадутся.
– Ты что? Ты лучше сядь, – говорю я.
Но он стоит, безуспешно подбираясь, молчит и смотрит на меня. И я невольно поднимаюсь с камня и, шатаясь, смотрю в его глаза – и вижу в них бездну ужаса и безумия. У всех зрачки сужены – а у него расплылись они во весь глаз; какое море огня должен видеть он сквозь эти огромные черные окна! Быть может, мне показалось, быть может, в его взгляде была только смерть, – но нет, я не ошибаюсь: в этих черных, бездонных зрачках, обведенных узеньким оранжевым кружком, как у птиц, было больше, чем смерть, больше, чем ужас смерти.
– Уходи! – кричу я, отступая. – Уходи!
И как будто он ждал только слова – он падает на меня, сбивая меня с ног, все такой же огромный, разбросанный и безгласный. Я с содроганием освобождаю придавленные ноги, вскакиваю и хочу бежать – куда-то в сторону от людей, в солнечную, безлюдную, дрожащую даль, когда слева, на вершине, бухает выстрел и за ним немедленно, как эхо, два других. Где-то над головою, с радостным, многоголосым визгом, криком и воем проносится граната.
Нас обошли!
Нет уже более смертоносной жары, ни этого страха, ни усталости. Мысли мои ясны, представления отчетливы и резки; когда, запыхавшись, я подбегаю к выстраивающимся рядам, я вижу просветлевшие, как будто радостные лица, слышу хриплые, но громкие голоса, приказания, шутки. Солнце точно взобралось выше, чтобы не мешать, потускнело, притихло – и снова с радостным визгом, как ведьма, резнула воздух граната.
Я подошел.
Отрывок второй
…почти все лошади и прислуга. На восьмой батарее так же. На нашей, двенадцатой, к концу третьего дня осталось только три орудия – остальные подбиты, – шесть человек прислуги и один офицер я. Уже двадцать часов мы не спали и ничего не ели, трое суток сатанинский грохот и визг окутывал нас тучей безумия, отделял нас от земли, от неба, от своих, – и мы, живые, бродили – как лунатики. Мертвые, те лежали спокойно, а мы двигались, делали свое дело, говорили и даже смеялись, и были – как лунатики. Движения наши были уверенны и быстры, приказания ясны, исполнение точно – но если бы внезапно спросить каждого, кто он, он едва ли бы нашел ответ в затемненном мозгу. Как во сне, все лица казались давно знакомыми, и все, что происходило, казалось также давно знакомым, понятным, уже бывшим когда-то; а когда я начинал пристально вглядываться в какое-нибудь лицо или в орудие или слушал грохот – все поражало меня своей новизною и бесконечной загадочностью. Ночь наступала незаметно, и не успевали мы увидеть ее и изумиться, откуда она взялась, как уже снова горело над нами солнце. И только от приходивших на батарею мы узнавали, что бой вступает в третьи сутки, и тотчас же забывали об этом: нам чудилось, что это идет все один бесконечный, безначальный день, то темный, то яркий, но одинаково непонятный, одинаково слепой. И никто из нас не боялся смерти, так как никто не понимал, что такое смерть.
Сложное время рубежа двух веков продиктовало полифонизм русской литературы, выразившийся в напряженных поисках новых методов, в многообразнейших литературных течениях, направлениях.
Уникальность Л.Андреева была в умении сочетать в своем творчестве разные стилевые течения и направления. Удивительна способность писателя чутко воспринимать все новое. И экспрессионизм как литературное направление начал свое развитие в творчестве именно этого русского писателя гораздо раньше, чем в западноевропейской литературе. «Экспрессионизм (от лат. expressio – выражение) направление искусства и литературы, развивающееся в Германии примерно с 1905 по 1920-е гг. и отразившееся в культуре ряда других стран. Термин впервые употребил в печати в 1911 году Х. Вальден – основатель экспрессионистского журнала «Штурм». Экспрессионизм возник как отклик на острейший социальный кризис первой четверти XX века. Протестуя против мировой войны и социальной несправедливости, против бездуховности жизни и подавленности личности социальными механизмами, мастера экспрессионизма совмещали протест с ужасом перед хаосом бытия. Кризис современной цивилизации предстал в произведениях экспрессионизма одним из звеньев апокалиптической катастрофы. Принцип всеохватывающей субъективной интерпретации действительности, возобладавшей в экспрессионизме, обусловил тяготение к абстрактности, обостренной эмоциональности, фантастическому гротеску». (Литературный энциклопедический словарь. Под ред. В.М.Кожевникова и П.А.Николаева. М., 1987)
Поэтика экспрессионизма, художественные приемы, способствующие выражению «предельного» состояния личности: отчаяния, понимания бесперспективности жизни, нашли яркое отражение в рассказе Л.Андреева «Красный смех» (1904).
Вскоре после начала русско-японской войны даже «Русский инвалид» сообщает о тяжких поражениях, о гибели русских солдат от солнечных ударов, о «волчьих ямах», расставленных японцами, о бессмысленных атаках русских пехотинцев, о сошедших с ума солдатах и офицерах. Растет недовольство правительством, развязавшим эту войну.
Из Крыма Л.Андреев пишет К.Пятницкому: «Сижу я здесь спиной к России и чувствую, как она там стонет, рычит, дичает, воет с голоду, с тоски, с бессмыслицы» (май 1904).
В литературе, в публицистике – разноречивые отклики на события войны. Один из самых ярких – статья Л.Н.Толстого «Одумайтесь!», в 1904 году напечатанная в английском издательстве «Свободное слово», в рукописных вариантах распространенная в России.
Неудивительно, что Андреев просит брата немедленно отвезти рукопись «Красного смеха» именно Толстому и с нетерпением ждет оценки.
Толстой, едва прочитав рукопись, пишет: «Я прочел ваш рассказ, любезный Леонид Николаевич, и на вопрос, переданный мне Вашим братом, о том, следует ли переделывать, отделывать этот рассказ, отвечаю, что чем больше положено работы и критики над писанием, тем оно бывает лучше, Но в том виде, каков он теперь, рассказ этот, думаю, может быть полезен.
В рассказе очень много сильных картин и подробностей; недостатки же его в большой искусственности и неопределенности». (17 ноября 1904 г.)
Что же показалось Л.Н.Толстому «искусственным и неопределенным» в рассказе Л.Андреева? Вероятно, новые формы выражения авторского сознания.
В то же время сам Андреев писал: «О войне говорить надо по-иному. И рассуждают, и хвалят, и бранят только по закону, скучно, холодно, вяло, неинтересно».
Многие обвиняли Андреева в том, что он никогда не был на войне, никогда не видел военных событий, но особенность Андреева-художника, его таланта в необычайной силе воображения, сопричастности к этим событиям. Один из современников Л.Андреева говорил, что автор умирает с убитыми, с теми, кто ранен и кто забыт, он тоскует и плачет, и когда из чьего-нибудь тела бежит кровь, он чувствует боль ран и страдает.
«Красный смех» был написан за девять дней, в состоянии необычайного нервного напряжения, доходящего до галлюцинаций. Андреев боялся оставаться один, и Александра Михайловна, жена писателя, молча просиживала в кабинете целые ночи без сна.
Андреев видел свою задачу не в описании реальных событий, а в отражении эмоционального субъективного отношения к ним. Ему необходимо было выразить свои трагические переживания так, чтобы его услышали . «Красный смех» называют исповедью потрясенной души, но эта исповедь нужна, чтобы достучаться до сердца читателя, пробудить дремлющие чувства равнодушной, сытой, самоуверенной толпы. Это стремление криком отчаяния и ужаса разбудить равнодушную толпу, вызвать сострадание к человеческому горю. Как талантливый экспериментатор, Андреев ищет новые художественно-выразительные средства и приходит к экспрессионизму, который часто характеризуют как «искусство крика».
Проанализируем произведение именно с этой точки зрения.
«Моя тема – безумие и ужас…» Безумие и ужас – формула, которой Андреев определил смысл кровавых событий, содержание войны и тему своего рассказа. «…безумие и ужас» - таково начало рассказа.
В нем восемнадцать отрывков, именно отрывков: потрясенное сознание не в состоянии осмыслить действительность, восприятие лишено целостности – отсюда «разорванность композиции» : обрывки фактов, мыслей, чувств. Рассказчик не в состоянии собрать воедино свои представления о войне. Автор намеренно не пытается создать единую картину.
Первая часть (девять отрывков) – это чувственное восприятие войны. Поэтому автор с самого начала поражает восприятие читателя цветом : «солнце было так огромно, так огненно и страшно , как будто земля приблизилась к нему и скоро сгорит в этом беспощадном огне», «солнце…кровавым светом входило в измученный мозг», «огромное, близкое, страшное солнце на каждом стволе ружья зажгло тысячи маленьких ослепительных солнц , и они отовсюду забирались в глаза, огненно-белые , острые, как концы добела заостренных штыков», «кожа на теле так багрово-красна , что на нее не хочется смотреть» и т.д. – красный, желтый, черный; звуком : «тяжелый неровный топот, скрежет железных колес, тяжелое неровное дыхание, сухое чмяканье запекшимися губами, страшный, необыкновенный крик » и т. д. «…то, что я видел, казалось диким вымыслом, тяжелым бредом обезумевшей земли».
«…безумие и ужас » - слова, ставшие рефреном первой части рассказа. Безумными кажутся мечты: «…А хорошо бы, товарищ, получить орден за храбрость. Он лежал на спине, желтый, остроносый, с выступающими скулами и провалившимися глазами, - лежал, похожий на мертвеца, и мечтал об ордене…и через три дня его должны будут свалить в яму, к мертвым, а он лежал, улыбался и мечтательно говорил об ордене». Безумными становятся военные действия: «…и нашей гранатой, пущенной из нашей пушки нашим солдатом, оторвало мне ноги. И никто не мог объяснить, как это случилось».
В каждом из отрывков, подчеркивая ужас войны, возникают картины – воспоминания о доме. «И тогда – и тогда внезапно я вспомнил дом: уголок комнаты, клочок голубых обоев и запыленный нетронутый графин с водою…А в соседней комнате, и я их не вижу, будто бы находятся жена моя и сын. Если бы я мог закричать, я закричал бы – так необыкновенен был этот простой и мирный образ, этот клочок голубых обоев и запыленный, нетронутый графин» (Отрывок первый). «…и как только я закрыл глаза, в них вступил тот же знакомый и необыкновенный образ: клочок голубых обоев и нетронутый запыленный графин на моем столике…» (Отрывок второй). «В этот вечер мы устроили себе праздник – печальный и странный праздник…Мы решили собраться вечером и попить чаю, как дома, и мы достали самовар, и достали даже лимон и стаканы , и устроились под деревом – как дома , на пикнике (Отрывок четвертый). «…когда я подумаю, что есть где-то улицы, дома, университет…» (Отрывок пятый).
Безумие и ужас войны оказываются и в том, что воспоминания о доме не спасительны, и после каждого из них - ужасающее описание смерти. «…это было безбожно, это было беззаконно. Красный Крест уважается всем миром, как святыня, и они видели, что это идет поезд не с солдатами, а с безвредными ранеными, и они должны были предупредить о заложенной мине. Несчастные люди, они уже грезили о доме …» (Отрывок седьмой).
И ни забота близких, ни горячая ванна не могут сделать человека прежним… «Я писал великое, я писал бессмертное – цветы и песни. Цветы и песни…» Но тщетны усилия героя вернуться к созиданию. Безумная война разрушила главную ценность – человека.
Вторая часть – рациональное восприятие войны – стремление понять её смысл. «Война беспредельно владеет мною и стоит как непостижимая загадка, как страшный дух, который я не могу облечь плотью. Я даю ей всевозможные образы…, но ни один образ не дает мне ответа, не исчерпывает того холодного, постоянного, отупелого ужаса, который владеет мною» (Отрывок десятый).
В первой части – восприятие чувственное, во второй – рациональное, но не случайно рассказчики – родные братья. Побывал на войне или нет, видел ужасы войны или читал о них в газетах – результат оказывается один. Единственный результат войны – сумасшествие.
Для экспрессионизма невозможен спокойный взгляд со стороны: автор и образ живут одним эмоциональным порывом. Л.Андреев почти насильственно вовлекает читателя в круг собственных переживаний, заставляет его чувствовать то, что чувствует сам. Читатель не просто сопереживает героям, усилиями автора он становится на их место, думая, ощущая, воспринимая войну так, как это необходимо писателю. Эту задачу решает язык произведения : герои его кричат, бьются, мечутся, то произносят выспренно-патетические монологи, то ограничиваются страшными безумными выкриками.
Почему рассказ о русско-японской войне имеет такое неожиданное название ?
Оно возникло как обозначение галлюцинации одного из героев, стало символизировать…смех самой залитой кровью земли, сходящей с ума!
Первоначально Андреев хотел назвать свой рассказ «Война». Но напряженные нервы всякое происшествие воспринимали предельно остро, словно в нем сконцентрирована всеобщая беда. Неподалеку от Никитского сада, в каменоломне, взрывом изуродовало двух турок, приехавших на заработки. Писатель видел, как несли одного из них: «Весь он, как тряпка, лицо – сплошная кровь, он улыбался странной улыбкой, так как был без памяти. Должно быть, мускулы как-нибудь сократились и получилась эта скверная красная улыбка».
Эта красная улыбка перерастает в грандиозный внереальный образ произведения о войне. Впервые мы видим его в конце второго отрывка: «Теперь я понял, что было во всех этих изуродованных, разорванных, странных телах. Это был красный смех. Он в небе, он в солнце, и скоро он разольется по всей земле, этот красный смех!» «Само небо казалось красным, и можно было подумать, что во вселенной произошла какая-то катастрофа, какая-то странная перемена и исчезновение цветов: исчезли голубой и зеленый и другие привычные и тихие цвета, а солнце загорелось красным бенгальским огнем.
Красный смех, - сказал я» (Отрывок четвертый).
В шестом отрывке обезумевший от ужаса войны доктор кричит: «Отечеством нашим я объявлю сумасшедший дом…И когда великий, непобедимый, радостный, я воцарюсь над миром, единым его владыкой и господином, - какой веселый смех огласит вселенную!
Красный смех! – закричал я, перебивая. – Спасите! Опять я слышу красный смех!»
И так от отрывка к отрывку. Красный смех объективен и реален, он имеет свое лицо, его видят разные герои. Он приобретает вселенский масштаб.
И в последнем отрывке мы видим картину Апокалипсиса: «Все грохотало, ревело, выло и трещало. Рев и выстрелы словно окрасились красным светом. Ровное огненно-красное небо, без туч, без звезд, без солнца. А внизу под ним лежало такое же ровное темно-красное поле, и было покрыто оно трупами.
Их становится больше, - сказал брат.
А за окном в багровом и неподвижном свете стоял сам Красный смех.
Таким образом, художественным воплощением войны стали не бои, горы трупов, море крови, а образ Красного смеха. Именно он несет основную смысловую и выразительную нагрузку, став символом безумия войны, символом всей земли, сходящей с ума.
А.Блок писал: «Андреев «вопил» при виде человеческих мучений, и вопли его услышаны, они так пронзительны, так вещи, что добираются до сокровенных тайников смирных и сытых телячьих душ…»
Сам Л.Н.Андреев не очень надеялся, что рассказ его будет напечатан, и планировал издать его самостоятельно с офортами Гойи «Ужасы войны» (так Андреев перевел название цикла, который чаще называют «Бедствия войны»). «Бумага толстая, по виду старая, с оборванными краями. Шрифт крупный, старый, большие поля. На отдельных листах 15 – 20 рисунков Гойи».
Казалось бы, что может быть общего в восприятии мира и войны испанским художником, живущим в начале 19 века и русским писателем начала века 20?
У Л.Андреева кошмарные картины кровопролития такие, какими они запечатлены в потрясенной, вывихнутой психике. В духе Гойи. И художник, и писатель достигают необыкновенной экспрессии нагнетением жутких подробностей, деталей, выхваченных из кровавой, бредовой сумятицы. Но как для Гойи важно заставить людей задуматься о Правде, о воскресшей Истине, о Жизни, так и Андреев кричит об ужасах войны, чтобы заставить людей думать о Жизни. Не случайно стихотворение Л.Василевского «Красный смех», посвященное Л.Андрееву (1905 г.)
В духоте кровавого угара
Умирают месяцы и дни…
Целый год кровавого кошмара,
Долгий год бессмысленной резни…
Льется кровь – горячая, живая…
Стон стоит над скорбною землей,
Умирают люди, проклиная,
И уносят ненависть с собой.
Крик ворон над мертвыми телами…
В нищете убогая земля…
Вспоены горючими слезами
Без людей забытые поля.
Стынет мозг и сердце цепенеет,
И, шумя трепещущим крылом,Красный смех безумья мрачно реет
Над пустым, измученным умом.
Во имя правды и любви,
Во имя света и природы,
Напрасно пролитой крови,
Вотще поруганной свободы –
Да будет прерван красный пир,
Да идет эта чаша мимо
Терпеть и жить – невыносимо…
Да будет мир!
Литературоведы определяют жанр «Красного смеха» и как рассказ, и как повесть, но сам писатель сказал, что его «Красный смех» - это фантазия о будущей войне и будущем человеке». Действительно, сила «Красного смеха» не в признаках места действия, не в точности описания боевых операций, а в том ощущении кризиса, ужаса, который уже охватил людей в начале XX века, когда люди остро почувствовали, что мир подошел к какой-то опасной грани, за которой не будет спасения, если вовремя не остановиться.
В том, что грезилось Л.Андрееву – предчувствие, предвестие надвигающихся кровавых катастроф трагического XX века.
Список использованной литературы.
- Андреев Л.Н. Собрание сочинений. В 6-ти томах. Т.2. – М. Худож. лит.,1990
- Афонин Л.Н. Леонид Андреев (из неопубликованного). - Орел, 2008
- Бондарева Н.А. Творчество Леонида Андреева и немецкий экспрессионизм. - Орел, 2005.
- Бугров Б.С. Леонид Андреев. Проза и драматургия. В помощь преподавателям, старшеклассникам и абитуриентам. - Изд. МГУ, 2000
- Иезуитова Л.А. Творчество Леонида Андреева (1892 – 1906). - Изд. Ленинградского университета, 1976.