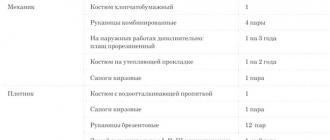Кино: поле битвы – сердца и умы людей. Философия сердца в миросозерцании Ф.М
Многие люди живут беззаботным будущим, теряя грань с настоящим и забывая смысл жизни и реальную миссию человека в этом мире. Человек сколько угодно может кричать, что он православный христианин, внешне исполнять все предписания. Но если у него не будет развито чувства любви, сострадания и жертвенности ради ближнего, то все его слова будут пустым звуком, который пронизан обманом и в первую очередь себя. Об этом замечательно пишет апостол Павел: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я - медь звенящая или кимвал звучащий». (1 Кор. 13.1).
В нашей жизни случается так, что человек, манипулируя своим сознанием, начинает разделять людей на правые и левые, на «свои» и «чужие», на чёрные и на белые…
Хочу остановиться и обратить внимание на слова апостола Павла: «Теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших; не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облекшись в нового, который обновляется в познании по образу Создавшего его, где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос» (Кол. 3. 8-11). В этих словах мы видим глубину и идеал, к которому мы должны стремиться. Господь никогда не нёс разъединение, но стремился вокруг себя сплотить народ. Если человек называет себя христианином, то он должен приложить максимум усилий, чтобы навести, в первую очередь, мир в своей душе, своей семье. Именно семья является тем оплотом, в котором должна развиваться и дарится любовь.
«Заботься не на земле оставить детей, но возвести на небо, не прилепляйся к супружеству плотскому, но стремись к духовному, рождай души и воспитывай детей духовно» - говорит Святитель Василий Великий. К сожалению, многие родители не предают значения воспитанию своих детей, уверяя себя в том, что это дело специальных педагогов. Хочу отметить, что как театр начинается с вешалки, так и воспитание с родительского дома, поэтому надо и прикладывать максимум усилий для воспитания собственных же детей и, более того, показывать пример собственной жизнью.
Человеческое естество пораженно грехом и в нём случается необычайное количество противоречий и это доказывает то, что человек постоянно борется с самим собой. «Здесь Бог с дьяволом борются, а поле битвы – сердца людей» - пишет Ф.М. Достоевский.
Возвращаясь к жизненному выбору, мы должны всегда ставить перед собой вопрос, что насколько правильный тот, или иной поступок мы делаем и к чему этот поступок в дальнейшем приведёт. Если наш поступок наполнен благими намерениями, то никакого терзания нашей совести у нас не будет. Если же мы не теряем чувство любви к ближним, то значит, мы стоим на правильном пути, который является незыблемым.
Если мы будем стараться развивать чувство любви, то будем и объединяться во Христе и вместе с апостолом Павлом будем говорит такие слова: «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем». (Рим. 8.38-39).
Я испытываю чувство некоторой неловкости, говоря о Достоевском. В своих лекциях я обычно смотрю на литературу под единственным интересным мне углом, то есть как на явление мирового искусства и проявление личного таланта. С этой точки зрения Достоевский писатель не великий, а довольно посредственный, со вспышками непревзойденного юмора, которые, увы, чередуются с длинными пустошами литературных банальностей. <...>
Влияние западной литературы во французских и русских переводах, сентиментальных и готических романов Ричардсона (1689 - 1761), Анны Радклифф (1764–1823), Диккенса (1812 - 1870), Руссо (1712 - 1778) и Эжена Сю (1804 - 1857) сочетается в произведениях Достоевского с религиозной экзальтацией, переходящей в мелодраматическую сентиментальность. <...>
Достоевский так и не смог избавиться от влияния сентиментальных романов и западных детективов. Именно к сентиментализму восходит конфликт, который он так любил: поставить героя в унизительное положение и извлечь из него максимум сострадания. Когда после возвращения из Сибири начали созревать идеи Достоевского: спасение через грех и покаяние, этическое превосходство страдания и смирения, непротивление злу, защита свободной воли не философски, а нравственно, и, наконец, главный догмат, противопоставляющий эгоистическую антихристианскую Европу братски-христианской России, - когда все эти идеи (досконально разобранные в сотнях учебников) хлынули в его романы, сильное западное влияние все еще оставалось, и хочется сказать, что Достоевский, так ненавидевший Запад , был самым европейским из русских писателей. Интересно проследить литературную родословную его героев. Его любимец, герой древнерусского фольклора Иванушка-дурачок , которого братья считают бестолковым придурком, на самом деле дьявольски изворотлив. Совершенно бессовестный, непоэтичный и малопривлекательный тип, олицетворяющий тайное торжество коварства над силой и могуществом, Иванушка-дурачок, сын своего народа, пережившего столько несчастий, что с лихвой хватило бы на десяток других народов, как ни странно - прототип князя Мышкина, главного героя романа Достоевского «Идиот» <...>
Безвкусица Достоевского, его бесконечное копание в душах людей с префрейдовскими комплексами, упоение трагедией растоптанного человеческого достоинства - всем этим восхищаться нелегко. Мне претит, как его герои «через грех приходят ко Христу», или, по выражению Бунина , эта манера Достоевского «совать Христа где надо и не надо». Точно так же, как меня оставляет равнодушным музыка, к моему сожалению, я равнодушен к Достоевскому-пророку. Лучшим, что он написал, мне кажется «Двойник». Эта история, изложенная очень искусно, по мнению критика Мирского, - со множеством почти джойсовских подробностей, густо насыщенная фонетической и ритмической выразительностью, - повествует о чиновнике, который сошел с ума, вообразив, что его сослуживец присвоил себе его личность. Повесть эта - совершенный шедевр, но поклонники Достоевского-пророка вряд ли согласятся со мной, поскольку она написана в 1840 г., задолго до так называемых великих романов, к тому же подражание Гоголю подчас так разительно, что временами книга кажется почти пародией. <...>
Сомнительно, можно ли всерьёз говорить о «реализме» или «человеческом опыте» писателя, создавшего целую галерею неврастеников и душевнобольных. - Лекции по русской литературе. М: Независимая газета, 1999. С. 170-171, 176-178, 183.
Здесь Бог с Дьяволом борются, а поле битвы – сердца людей
(Роман «Братья Карамазовы»)
«Русский либерализм не есть нападение на существующие порядки вещей, а есть нападение на самую сущность наших вещей, на самые вещи, а не на один только порядок, не на русские порядки, а на самую Россию. Мой либерал дошёл до того, что отрицает самую Россию, то есть ненавидит и бьёт свою мать. Каждый несчастный и неудачный русский факт возбуждает в нём смех и чуть не восторг. Он ненавидит народные обычаи, русскую историю, всё. (…) Такого не может быть либерала нигде, который бы самое отечество своё ненавидел. Чем же это всё объяснить у нас? Тем самым, что и прежде, - тем, что русский либерал есть покамест ещё не русский либерал», - писал Фёдор Достоевский в романе «Идиот».
А своеобразным воплощением этой либеральной лакейщины, крайней степенью оной является персонаж уже другого произведения писателя… Есть в России с некоторых пор особого склада люди, зачастую полагающиеся прогрессивными и «новыми» за счёт своих «передовых» идей, как скорее истребить Россию и русский народ в угоду просвещённому Западу. Таковые господа имеют в нашей литературе весьма «достойного» предтечу – Смердякова. «Может ли русский мужик против образованного человека чувство иметь? По необразованности своей он никакого чувства не может иметь» - подобное отношение к народу и есть ни что иное, как смердяковщина. Смердяковщина – презрение и ненависть к России, ко всему русскому, отказ России в праве на собственное развитие, собственную мысль, собственную национальную самобытность. Все эти черты в той или иной степени были и ныне свойственны русским либералам. И дико смотрятся многочисленные лакеи в образе учителей да новоявленной «знати». Нынешние «смердяковы» образованны и лощёны в отличие от своего предшественника, надушены дорогим парфюмом, но и он не способен забить смрад от них исходящей. И суть их остаётся неизменной во все времена. «Я желаю уничтожения всех солдат-с. В 12-м году было на Россию великое нашествие императора Наполеона французского первого, отца нынешнему, и хорошо, кабы нас тогда покорили эти самые французы: умная нация покорила бы весьма глупую-с и присоединила к себе. Совсем даже были бы другие порядки-с». Демократичнее было бы, цивилизованнее! Да, вот, вечная беда: народец – дрянь! Мешается! «Русский народ надо пороть-с!» И один известный либерал, современник Достоевского, ответил однажды своему оппоненту на довод, что «этого народ не допустит»: «Тогда уничтожим народ!» Просто и понятно. Смердяковщина – превалирующая идеология большой части либеральной публики. Сводится она к одному единственному признанию: «Я всю Россию ненавижу!»
Но откуда же берутся «смердяковы»? Из чего произрастают они? Их разум слишком мелок и неразвит для изобретения идей собственных. Идеи, в несколько изуродованном под себя виде, перенимают они от прелюбодеев мысли, лукавых мудрецов, надменных умников, кои, при полном неверии во что бы то ни было, проповедуют в зависимости от настроения то Бога, то чёрта, то либерализм, то социализм, противопоставляя теории свои, плоды ума человеческого, разуму высшему, подменяя человеческим судом Божию справедливость. Именно эти люди – духовные отцы «смердяковых».
И это в точности показано на примере Ивана Карамазова. Личность его весьма противоречива, ибо расколота сама в себе, а, как известно, «дом, расколовшийся в себе, не устоит». Иван яростно отрицает Бога, точнее, мир Божий, но он-то, быть может, пуще кого бы то ни было жаждет веры. Его трагедия в его безверии, в том, что надменная его душа не в силах уверовать во что-то, а оттого обречена вечным метаниям и сомнениям. Иван так страстно обличает мир, возможно, потому, что тем самым пытается оправдать себя. Он словно обижен на Бога за то, что мир его оказывается не таким справедливым, не тем, каковым должен был бы быть он в понимании Ивана Фёдоровича. Когда же он говорит о любви своей к детям, то лукавит. Ибо, если подлинно любишь детей, то следует иметь снисходительность и жалость ко взрослым. А этого у Ивана нет. И, вопия о страданиях детей, сам он никогда не станет облегчать их отдельно взятому ребёнку. Поэтому суждения его, отчасти справедливые и убедительные есть демагогия. Замечательно ещё, что Иван, подобно Свидригайлову, собирается уехать в Америку... Отступивший от Бога, в конечном итоге предаёт себя в руки дьяволу. Так происходит и с Иваном. И, вот, он, подобно другому персонажу Достоевского, Ставрогину, начинает верить… в беса. В канонического беса! Потому что последний ему является… Не может вынести душа Ивана собственного декларируемого принципа: «Всё дозволено!» - который восторженно впитывает в себя Смердяков и следует ему. Хотя даже последнему оказывается не по зубам идти по этому пути: «Они от дел своих казнятся!»
Груз вседозволенности оказывается не по силам и Ивану, надрывает его умственные и душевные силы, ведя к саморазрушению. Ведь Иван не Смердяков. В нём живо ещё и благородство, и совесть. И чувствует он после убийства отца свою сопричастность, хотя и пытается отрицать это вначале: «Да я и сам знаю, что не я убил…». И слышит сокрушающий ответ: «Знаете-с? В таком случае, вы-то и убили!» Мысль эта потрясает Ивана Федоровича, и он, этот проповедник вседозволенности, идёт в суд, чтобы признаться в убийстве и спасти столь нелюбимого брата: «Берите меня! Я убил! Отпустите его, изверги!» Это иной уже Иван. И, может быть, пройдя через горнило болезни, душа его, пребывавшая во мраке, но страдавшая о свете, свет этот всё-таки узрит…
А проводником к нему вполне может стать брат Ивана – Алёша, чистое сердце, за которое Бог с Дьяволом борется. Алёша – сын блудника Фёдора Павловича и любимый ученик праведного старца Зосимы. И для него середины быть не может: или быть с Богом всецело, или бунт. Однако, старец избирает для него испытание наиболее тяжкое – подвиг в миру, где придётся пройти смиреннику все возможные искусы. Первую брешь в нерушимой Алёшиной вере пытается пробить Иван. И спор их есть едва ли не самая существенная часть романа, ибо тут столкновение двух начал, веры истинной и лукавой теории, души чистой и разума гордого.
Примечательно, что в начале разговора Иван признаётся:
«- Братишка ты мой, не тебя я хочу развратить и сдвинуть с твоего устоя, я может быть себя хотел бы исцелить тобою, - этого исцеления Алёшей жаждут, пожалуй, все Карамазовы, и не только они, все они тянутся к нему. Может оттого, что подлецы всегда к чистоте тягу имеют?»
Далее Иван развивает свою идею:
«- Я тебе должен сделать одно признание - я никогда не мог понять, как можно любить своих ближних. Именно ближних-то по-моему и невозможно любить, а разве лишь дальних. Я читал вот как-то и где-то про "Иоанна Милостивого" (одного святого), что он, когда к нему пришел голодный и обмерзший прохожий и попросил согреть его, лег с ним вместе в постель, обнял его и начал дышать ему в гноящийся и зловонный от какой-то ужасной болезни рот его. Я убежден, что он это сделал с надрывом, с надрывом лжи, из-за заказанной долгом любви, из-за натащенной на себя эпитимии. Чтобы полюбить человека, надо чтобы тот спрятался, а чуть лишь покажет лицо свое - пропала любовь. (…) По-моему Христова любовь к людям есть в своем роде невозможное на земле чудо. Правда, он был бог. Но мы-то не боги. Положим, я например глубоко могу страдать, но другой никогда ведь не может узнать, до какой степени я страдаю, потому что он другой, а не я, и сверх того редко человек согласится признать другого за страдальца (точно будто это чин). Почему не согласится, как ты думаешь? Потому, например, что от меня дурно пахнет, что у меня глупое лицо, потому что я раз когда-то отдавил ему ногу. К тому же страдание и страдание: унизительное страдание, унижающее меня, голод, например, еще допустит во мне мой благодетель, но чуть повыше страдание, за идею, например, нет, он это в редких разве случаях допустит, потому что он, например, посмотрит на меня и вдруг увидит, что у меня вовсе не то лицо, какое по его фантазии должно бы быть у человека, страдающего за такую-то, например, идею. Вот он и лишает меня сейчас же своих благодеяний и даже вовсе не от злого сердца. Нищие, особенно благородные нищие, должны бы были наружу никогда не показываться, а просить милостыню чрез газеты. Отвлеченно еще можно любить ближнего и даже иногда издали, но вблизи почти никогда. Если бы все было как на сцене, в балете, где нищие, когда они появляются, приходят в шелковых лохмотьях и рваных кружевах и просят милостыню, грациозно танцуя, ну тогда еще можно любоваться ими. Любоваться, но все-таки не любить. Но довольно об этом. Мне надо было лишь поставить тебя на мою точку. Я хотел заговорить о страдании человечества вообще, но лучше уж остановимся на страданиях одних детей. Это уменьшит размеры моей аргументации раз в десять, но лучше уже про одних детей. Тем не выгоднее для меня, разумеется. Но во-первых, деток можно любить даже и вблизи, даже и грязных, даже дурных лицом (мне однако же кажется, что детки никогда не бывают дурны лицом). Во-вторых, о больших я и потому еще говорить не буду, что, кроме того что они отвратительны и любви не заслуживают, у них есть и возмездие: они съели яблоко и познали добро и зло и стали "яко бози". Продолжают и теперь есть его. Но деточки ничего не съели и пока еще ни в чем невиновны. Любишь ты деток, Алеша? Знаю, что любишь, и тебе будет понятно, для чего я про них одних хочу теперь говорить. Если они на земле тоже ужасно страдают, то уж конечно за отцов своих, наказаны за отцов своих, съевших яблоко, - но ведь это рассуждение из другого мира, сердцу же человеческому здесь на земле непонятное. Нельзя страдать неповинному за другого, да еще такому неповинному! Подивись на меня, Алеша, я тоже ужасно люблю деточек. И заметь себе, жестокие люди, страстные, плотоядные, Карамазовы, иногда очень любят детей. Дети, пока дети, до семи лет, например, страшно отстоят от людей совсем будто другое существо и с другою природой. (…)
- Ты говоришь с странным видом, - замечает Алёша, - точно ты в каком безумии.
(…)
- Одну, только одну еще картинку, и то из любопытства, очень уж характерная… (…)Ну вот живет генерал в своем поместье в две тысячи душ, чванится, третирует мелких соседей как приживальщиков и шутов своих. Псарня с сотнями собак и чуть не сотня псарей, все в мундирах, все на конях. И вот дворовый мальчик, маленький мальчик, всего восьми лет, пустил как-то играя камнем и зашиб ногу любимой генеральской гончей. "Почему собака моя любимая охромела?" Докладывают ему, что вот дескать этот самый мальчик камнем в нее пустил и ногу ей зашиб. "А, это ты, - оглядел его генерал, - взять его!" Взяли его, взяли у матери, всю ночь просидел в кутузке, на утро чем свет выезжает генерал во всем параде на охоту, сел на коня, кругом его приживальщики, собаки, псари, ловчие, все на конях. Вокруг собрана дворня для назидания, а впереди всех мать виновного мальчика. Выводят мальчика из кутузки. Мрачный, холодный, туманный осенний день, знатный для охоты. Мальчика генерал велит раздеть, ребеночка раздевают всего донага, он дрожит, обезумел от страха, не смеет пикнуть... "Гони его!" командует генерал, "беги, беги!" кричат ему псари, мальчик бежит... "Ату его!" вопит генерал и бросает на него всю стаю борзых собак. Затравил в глазах матери, и псы растерзали ребенка в клочки!.. Генерала, кажется, в опеку взяли. Ну... что же его? Расстрелять? Для удовлетворения нравственного чувства расстрелять? Говори, Алешка!
- Расстрелять! - тихо проговорил Алеша, с бледною, перекосившеюся какою-то улыбкой подняв взор на брата.
- Браво! - завопил Иван в каком-то восторге, - уж коли ты сказал, значит... Ай да схимник! Так вот какой у тебя бесенок в сердечке сидит, Алешка Карамазов!
- Я сказал нелепость, но...
- То-то и есть, что но... - кричал Иван. - Знай, послушник. Что нелепости слишком нужны на земле. На нелепостях мир стоит и без них может быть в нем совсем ничего бы и не произошло. Мы знаем что знаем!
- Что ты знаешь?
- Я ничего не понимаю, - продолжал Иван как бы в бреду, - я и не хочу теперь ничего понимать. Я хочу оставаться при факте. Я давно решил не понимать. Если я захочу что-нибудь понимать, то тотчас же изменю факту, а я решил оставаться при факте...
- Для чего ты меня испытуешь? - с надрывом горестно воскликнул Алеша, - скажешь ли мне наконец?
- Конечно скажу, к тому и вел, чтобы сказать. Ты мне дорог, я тебя упустить не хочу и не уступлю твоему Зосиме.
Иван помолчал с минуту, лицо его стало вдруг очень грустно.
- Слушай меня: я взял одних деток, для того чтобы вышло очевиднее. Об остальных слезах человеческих, которыми пропитана вся земля от коры до центра - я уж ни слова не говорю, я тему мою нарочно сузил. Я клоп и признаю со всем принижением, что ничего не могу понять, для чего все так устроено. Люди сами, значит, виноваты: им дан был рай, они захотели свободы и похитили огонь с небеси, сами зная, что станут несчастны, значит нечего их жалеть. О, по моему, по жалкому, земному эвклидовскому уму моему, я знаю лишь то, что страдание есть, что виновных нет, что все одно из другого выходит прямо и просто, что все течет и уравновешивается, - но ведь это лишь эвклидовская дичь, ведь я знаю же это, ведь жить по ней я не могу же согласиться! Что мне в том, что виновных нет и что все прямо и просто одно из другого выходит, и что я это знаю - мне надо возмездие, иначе ведь я истреблю себя. И возмездие не в бесконечности где-нибудь и когда-нибудь, а здесь уже на земле, и чтоб я его сам увидал. Я веровал, я хочу сам и видеть, а если к тому часу буду уже мертв, то пусть воскресят меня, ибо если все без меня произойдет, то будет слишком обидно. Не для того же я страдал, чтобы собой, злодействами и страданиями моими унавозить кому-то будущую гармонию. Я хочу видеть своими глазами, как лань ляжет подле льва и как зарезанный встанет и обнимется с убившим его. Я хочу быть тут, когда все вдруг узнают, для чего все так было. На этом желании зиждутся все религии на земле, а я верую. Но вот однако же детки, и что я с ними стану тогда делать? Это вопрос, который я не могу решить. В сотый раз повторяю - вопросов множество, но я взял одних деток, потому что тут неотразимо ясно то, что мне надо сказать. Слушай: если все должны страдать, чтобы страданием купить вечную гармонию, то при чем тут дети, скажи мне пожалуйста? Совсем непонятно, для чего должны были страдать и они, и зачем им покупать страданиями гармонию? Для чего они-то тоже попали в материал и унавозили собою для кого-то будущую гармонию? Солидарность в грехе между людьми я понимаю, понимаю солидарность и в возмездии, но не с детками же солидарность в грехе, и если правда в самом деле в том, что и они солидарны с отцами их во всех злодействах отцов, то уж конечно правда эта не от мира сего и мне непонятна. Иной шутник скажет пожалуй, что все равно дитя вырастет и успеет нагрешить, но вот же он не вырос, его восьмилетнего затравили собаками. О, Алеша, я не богохульствую! Понимаю же я, каково должно быть сотрясение вселенной, когда все на небе и под землею сольется в один хвалебный глас и все живое и жившее воскликнет: "Прав ты, господи, ибо открылись пути твои!" Уж когда мать обнимется с мучителем, растерзавшим псами сына ее, и все трое возгласят со слезами: "Прав ты, господи", то уж конечно настанет венец познания и все объяснится. Но вот тут-то и запятая, этого-то я и не могу принять. И пока я на земле, я спешу взять свои меры. Видишь ли, Алеша, ведь может быть и действительно так случится, что, когда я сам доживу до того момента, али воскресну, чтоб увидать его, то и сам я пожалуй воскликну со всеми, смотря на мать, обнявшуюся с мучителем ее дитяти: "Прав ты, господи!" но я не хочу тогда восклицать. Пока еще время, спешу оградить себя, а потому от высшей гармонии совершенно отказываюсь. Не стоит она слезинки хотя бы одного только того замученного ребенка, который бил себя кулаченком в грудь и молился в зловонной конуре своей неискупленными слезками своими к "боженьке"! Не стоит потому что слезки его остались неискупленными. Они должны быть искуплены, иначе не может быть и гармонии. Но чем, чем ты искупишь их? Разве это возможно? Неужто тем, что они будут отомщены? Но зачем мне их отмщение, зачем мне ад для мучителей, что тут ад может поправить, когда те уже замучены. И какая же гармония, если ад: я простить хочу и обнять хочу, я не хочу, чтобы страдали больше. И если страдания детей пошли на пополнение той суммы страданий, которая необходима была для покупки истины, то я утверждаю заранее, что вся истина не стоит такой цены. Не хочу я наконец, чтобы мать обнималась с мучителем, растерзавшим ее сына псами! Не смеет она прощать ему! Если хочет, пусть простит за себя, пусть простит мучителю материнское безмерное страдание свое; но страдания своего растерзанного ребенка она не имеет права простить, не смеет простить мучителя, хотя бы сам ребенок простил их ему! А если так, если они не смеют простить, где же гармония? Есть ли во всем мире существо, которое могло бы и имело право простить? Не хочу гармонии, из-за любви к человечеству не хочу. Я хочу оставаться лучше со страданиями не отомщенными.
Лучше уж я останусь при неотомщенном страдании моем и неутоленном негодовании моем, хотя бы я был и не прав. Да и слишком дорого оценили гармонию, не по карману нашему вовсе столько платить за вход. А потому свой билет на вход спешу возвратить обратно. И если только я честный человек, то обязан возвратить его как можно заранее. Это и делаю. Не бога я не принимаю, Алеша, я только билет ему почтительнейше возвращаю.
- Это бунт, - тихо и потупившись проговорил Алеша.
- Бунт? Я бы не хотел от тебя такого слова, - проникновенно сказал Иван. - Можно ли жить бунтом, а я хочу жить. Скажи мне сам прямо, я зову тебя, - отвечай: Представь, что это ты сам возводишь здание судьбы человеческой с целью в финале осчастливить людей, дать им наконец мир и покой, но для этого необходимо и неминуемо предстояло бы замучить всего лишь одно только крохотное созданьице, вот того самого ребеночка, бившего себя кулаченком в грудь и на неотомщенных слезках его основать это здание, согласился ли бы ты быть архитектором на этих условиях, скажи и не лги!
- Нет, не согласился бы, - тихо проговорил Алеша.
- И можешь ли ты допустить идею, что люди, для которых ты строишь, согласились бы сами принять свое счастие на неоправданной крови маленького замученного, а приняв, остаться навеки счастливыми?
- Нет, не могу допустить. Брат, - проговорил вдруг с засверкавшими глазами Алеша, - ты сказал сейчас: есть ли во всем мире существо, которое могло бы и имело право простить? Но Существо это есть, и оно может все простить, всех и вся и за все, потому что само отдало неповинную кровь свою за всех и за все. Ты забыл о нем, а на нем-то и зиждется здание, и это ему воскликнут: "Прав ты, господи, ибо открылись пути твои"».
И после этих слов Иван рассказывает брату свою поэму «Великий Инквизитор». Поразителен реакция Алёши, совершенно понявшего суть Инквизитора и ему подобных «умных людей», их «человеколюбия»:
«- Никакого у них нет такого ума, и никаких таких тайн и секретов... Одно только разве безбожие, вот и весь их секрет. Инквизитор твой не верует в бога, вот и весь его секрет! – и сокрушённо обращается он к брату, поняв страдание его: - Как же жить-то будешь, чем ты любить-то будешь? С таким адом в груди и в голове разве это возможно? (…)
- Есть такая сила, что все выдержит!
- Какая сила?
- Карамазовская... сила низости Карамазовской.
- Это потонуть в разврате, задавить душу в растлении, да, да?
- Пожалуй и это... только до тридцати лет может быть я избегну, а там...
- Как же избегнешь? Чем избегнешь? Это невозможно с твоими мыслями.
- Опять-таки по-карамазовски.
- Это чтобы "все позволено"? Все позволено, так ли, так ли?
Иван нахмурился и вдруг странно как-то побледнел.
- Да, пожалуй: "все позволено", если уж слово произнесено. Не отрекаюсь. (…) Я, брат, уезжая думал, что имею на всем свете хоть тебя, а теперь вижу, что и в твоем сердце мне нет места, мой милый отшельник. От формулы: "все позволено" я не отрекусь, ну и что же, за это ты от меня отречешься, да, да?
Алеша встал, подошел к нему, и молча, тихо поцеловал его в губы».
После выхода в печать романа «Братья Карамазовы» на Достоевского обрушился шквал критики. Фёдор Михайлович ответил хулителям: «Мерзавцы дразнили меня необразованною и ретроградною верою в Бога. Этим олухам и не снилось такой силы отрицание Бога, какое положено в «Инквизиторе»… которому ответом служит весь роман. Не дурак же (фанатик) я верую в Бога. И эти хотели меня учить и смеялись над моим неразвитием! Да их глупой природе и не снилось такой силы отрицание, которое перешёл я. Им ли меня учить!.. Инквизитор и глава о детях. Ввиду этих глав вы бы могли отнестись ко мне хотя бы научно, не столь высокомерно по части философии… И в Европе такой силы атеистических выражений нет и не было. Стало быть, не мальчик же я верую, а через большое горнило сомнений моя осанна прошла…
В ваших душах такие трущобы мрака, которые никакой луч не озарит. Кого же вы просвещать думаете, кого?»
После «Братьев Карамазовых» Достоевский собирался написать новый роман – «Дети». О судьбе Алёши Карамазова, который, вернувшись, по завету старца Зосимы, в мир должен был попасть в среду революционеров, переболеть их идеей устроения справедливого общества, для реализации коей все средства хороши, и побороть в себе это искушение.
Ивану удалось таки посеять в душе брата семена сомнений, однако, силой направляющей для последнего навсегда останется старец Зосима, его поучения, кои недурно было бы помнить всякому. Чему же учил старец?
«Главное, самому себе не лгите. Лгущий самому себе и собственную ложь свою слушающий до того доходит, что уж никакой правды ни в себе, ни кругом не различает, а стало быть входит в неуважение и к себе и к другим. Не уважая же никого, перестает любить, а чтобы, не имея любви, занять себя и развлечь, предается страстям и грубым сладостям, и доходит совсем до скотства в пороках своих, а все от беспрерывной лжи и людям и себе самому. Лгущий себе самому прежде всех и обидеться может. Ведь обидеться иногда очень приятно, не так ли? И ведь знает человек, что никто не обидел его, а что он сам себе обиду навыдумал и налгал для красы, сам преувеличил, чтобы картину создать, к слову привязался и из горошинки сделал гору, - знает сам это, а все-таки самый первый обижается, обижается до приятности, до ощущения большего удовольствия, а тем самым доходит и до вражды истинной...»
«Народ божий любите, не отдавайте стада отбивать пришельцам, ибо если заснете в лени и в брезгливой гордости вашей, а пуще в корыстолюбии, то придут со всех стран и отобьют у вас стадо ваше. Толкуйте народу Евангелие неустанно... Не лихоимствуйте... Сребра и золота не любите, не держите... Веруйте и знамя держите. Высоко возносите его...»
«Провозгласил мир свободу, в последнее время особенно, и что же видим в этой свободе ихней: одно лишь рабство и самоубийство! Ибо мир говорит: "Имеешь потребности, а потому насыщай их, ибо имеешь права такие же, как и у знатнейших и богатейших людей. Не бойся насыщать их, но даже приумножай", - вот нынешнее учение мира. В этом и видят свободу. И что же выходит из сего права на приумножение потребностей? У богатых уединение и духовное самоубийство, а у бедных - зависть и убийство, ибо права-то дали, а средств насытить потребности еще не указали. Уверяют, что мир чем далее, тем более единится, слагается в братское общение, тем что сокращает расстояния, передает по воздуху мысли. Увы, не верьте таковому единению людей. Понимая свободу, как приумножение и скорое утоление потребностей, искажают природу свою, ибо зарождают в себе много бессмысленных и глупых желаний, привычек и нелепейших выдумок. Живут лишь для зависти друг к другу, для плотоугодия и чванства.
Иметь обеды, выезды, экипажи, чины и рабов-прислужников считается уже такою необходимостью, для которой жертвуют даже жизнью, честью и человеколюбием, чтоб утолить эту необходимость, и даже убивают себя, если не могут утолить ее. У тех, которые не богаты, то же самое видим, а у бедных неутоление потребностей, зависть пока заглушаются пьянством. Но вскоре вместо вина упьются и кровью, к тому их ведут. (…) И не дивно, что вместо свободы впали в рабство, а вместо служения братолюбию и человеческому единению впали напротив в отъединение и уединение, как говорил мне в юности моей таинственный гость и учитель мой. А потому в мире все более и более угасает мысль о служении человечеству, о братстве и целостности людей и воистину встречается мысль сия даже уже с насмешкой, ибо как отстать от привычек своих, куда пойдет сей невольник, если столь привык утолять бесчисленные потребности свои, которые сам же навыдумал? В уединении он, и какое ему дело до целого. И достигли того, что вещей накопили больше, а радости стало меньше.»
«Ад есть страдание о том, что нельзя уже более любить».
«О, есть и во аде пребывшие гордыми и свирепыми, несмотря уже на знание бесспорное и на созерцание правды неотразимой; есть страшные, приобщившиеся сатане и гордому духу его всецело. Для тех ад уже добровольный и ненасытимый; те уже доброхотные мученики. Ибо сами прокляли себя, прокляв бога и жизнь. Злобною гордостью своею питаются, как если бы голодный в пустыне кровь собственную свою сосать из своего же тела начал. Но ненасытимы во веки веков и прощение отвергают, бога, зовущего их, проклинают. Бога живаго без ненависти созерцать не могут и требуют, чтобы не было бога жизни, чтоб уничтожил себя бог, и все создание свое. И будут гореть в огне гнева своего вечно, жаждать смерти и небытия. Но не получат смерти...»
«Меня зовут психологом; неправда, я лишь реалист в высшем смысле, то есть я изображаю все глубины души человеческой», - писал Ф.М. Достоевский. В своих романах он описывает не столько эмпирические события и состояния человека, сколько, прежде всего, события духовные, диалектику духовных реальностей. Достоевский - один из зачинателей персоналистического образа мысли в русской культуре; он по идейным и творческим установкам персоналист, как и большинство русских философов ХХ века. Его интересует, прежде всего, то индивидуальное, в котором раскрывается универсальное содержание.Его герои являют индивидуальные характеры, вместе с тем воплощают некие идеи в их предельном выражении - «Достоевский стал великим художником идеи» (М.М. Бахтин). Это не абстрактные и рационалистические, а экзистенциальные идеи, идеи-индивидуумы, способные воплощаться, своего рода живые духовные существа с собственной волей, своим индивидуальным обликом. Такого рода сочетание своеобразного идеализма и персонализма создает уникальный облик персонажей. Герой Достоевского - это одержимый идеей, «человек идеи» (М.М. Бахтин), но, вместе с тем, и идея-человек - выражение определенной идеи. Поэтому герои Достоевского одновременно искусственны и жизненны, предельно фантастичны и предельно реальны. Они пребывают в неестественной и нередко сверхъестественной ситуации, в необычном состоянии, надрыве, надломе, невероятной напряженности переживаний и действий, когда многое кажется необусловленным, самопроизвольным, непредвиденным и непредсказуемым, алогичным. С точки зрения обыденного сознания так не поступают, так не говорят живые люди. Но в персонажах, которые с обыденной точки зрения представляются преступниками и сумасшедшими, описывается напряженная борьба идей. При всей своей необычности и неправдоподобности герои Достоевского психологически достоверны.
Эмпирическая искусственность и нарочитость их действий в духовном плане оказывается адекватной и последовательной. Образы Достоевского оправданы с точки зрения психологии экстремальной ситуации, из которой почти не выходят его герои. В состояниях крайнего духовного напряжения с ними происходят невероятные для обыденной жизни события: сверхъестественные догадки, узнавание чужих мыслей, прови дения, совершение неожиданных, немотивированных поступков. В произведениях Достоевского господствует пограничнаяили предпограничнаяситуация (переживание глубочайших потрясений: страха, страданий, борьбы, смерти; это состояния, в которых человек познает себя как нечто безусловное). Подобную напряженность смыслов и аффектов трудно вынести, и многих отталкивает невероятная духовная энергия произведений писателя и видимая уродливость его персонажей и действий. Многим кажется, что Достоевский описывает душевную патологию либо какую-то фантасмагорию, не имеющую отношения к реальной жизни. Сам же Достоевский говорил о реалистичности своих произведений: «Меня многие критики укоряли, что я вообще в романах моих беру будто бы не те темы, не реальные и проч. Я, напротив, не знаю ничего реальнее именно этих вот тем». Он имел в виду другую реальность - не обыденную, а глубинную реальность духа . «Новая действительность, творимая гениальным художником, реальна, потому что вскрывает самую сущность бытия, но не реалистична, потому что нашей действительности не производит. Быть может, из всех мировых писателей Достоевский обладал самым необычным видением мира и самым могущественным даром воплощения» (К.В. Мочульский).
К образам Достоевского можно применить его формулировку, высказанную по близкому поводу: «Конечно, они абсурдны в обыденном смысле, но в смысле ином, внутреннем, кажется, справедливы».Это изображение не эмпирических лиц и событий, а душевных состояний и процессов. Внутренняя жизнь человека спонтанна, клочковата, алогична, хотя на уровне сознания выглядит логичной. Интенсивная душевная жизнь - это борьба противоречивых сил, постоянный надрыв и раскол. В сильном характере какая-либо идея может захватить воображение, подчинить душевную жизнь, лишить ее разнообразия, и перед нами человек идеи или идея-человек. Герои Достоевского олицетворяют собой внутренние силы, которые мы порождаем в своей душе и которые способны поработить нас. В той степени, в какой мы проявляем себя как существа свободные, творческие, как личности, мы созидаем образы истинного, прекрасного и благого бытия. Отдаваясь своеволию, эгоизму, самостным инстинктам, стихиям зла, мы плодим ложные идеи и злые силы. Борьба добрых и злых мотивов порождает конфликт внутренней жизни, трагическую коллизию - столкновение противоположных стремлений, интересов.
Итак, поле действия индивидуальных духовных сущностей Достоевского - душа человека. «В мире дьявол с Богом борется, и поле битвы - сердца людей» - это высказывание Достоевского выражает интенцию его творчества. Поэтому чувство эстетического равновесия и критерий художественной завершенности образа у писателя во многом мотивированы этически. В поисках, развитии, дифференциации и собирании художественных образов участвует его нравственно-религиозное чувство. В литературной форме, как наиболее адекватной его образу мысли, Достоевский пытается обдумать, понять и решить собственные метафизические проблемы. Это придает неповторимое своеобразие его поэтике - системе художественных средств. Ее нельзя понять и оправдать только эстетически. В творчестве Достоевский пытается решить главные, наиболее мучительные и скрытые вопросы бытия человека. На этом он сосредоточивает свои силы. Отсюда напряженность, эксцентричность чувств и отношений его героев. То, что не входит в его основной интерес, удостаивается мимолетной зарисовки и поэтому производит впечатление искусственности.
До сих пор не прекращается дискуссия: полифонично или монологично творчество Достоевского. У него диалектически сочетается и то, и другое. Это - полифония, поскольку в романах Достоевского явное многоголосье оппонирующих и взаимоисключающих позиций и идей. Писатель видел изначальную конфликтность душевной жизни человека, расколотость, противоречивость его сознания и чувств. Но это имонологичность, поскольку все происходит в рамках единой души человека, представляющей собой поле битвы мирового добра и зла. В романах Достоевского один главный герой, вбирающий в себя большинство образов остальных. Монологизм творчества писателя сказывается и в том, что он утверждает метафизическое единство личности как целеполагаемую норму . Главное же - творчество Достоевского является проекцией разрешения им самим бытийных проблем. Его персонажами движет и их объединяет обязательный изначальный вопрос и творческая проблема самого писателя. Итак, многие голоса в своем соединении выражают автора: творчество Достоевского более всего симфонично - представляет собой соединение, сочетание множества противоречивых состояний, идей.
Как у всех великих русских писателей, начиная с Пушкина, литературный труд для Достоевского был одновременно и самотворчеством, созиданием нового облика личности и нового образа жизни. Нить мучительной судьбы Достоевского вплетена в ткань его произведений. С другой стороны, в творениях своих он пытался понять и разрешить мучающие его вопросы жизни. Его творчество экзистенциально, прежде всего, в том, что укоренено и охвачено единством экзистенции самого автора.
Таков путь осознания Достоевским действительности: личное переживание воплощается в художественной форме и затем осознается вполне. В художественном образе он погружается в метафизическую глубину проблемы, исследует ее диалектическое содержание и после этого формулирует впрямую. Это не чисто литературные занятия, не игра фантазии, мало отражающиеся на облике и судьбе автора, а тип жизни . Достоевский не мог не писать романов, прежде всего, потому, что разрешал в них проблемы собственного бытия. Отсюда потребность миссионерства - распространения своих взглядов, отсюда же и профетичность - чувство пророческой значимости своих высказываний. Не может писатель, творящий в сугубо литературных традициях и ассоциациях, проникнуться пафосом обладания целостной истиной, спасительной для человечества. Вместе с тем Достоевскому не были чужды и формальные эстетические поиски, он был в гуще литературной жизни и живо реагировал на нее. Но литературный процесс не был для него самодостаточным, а служил материей, в которой он мог наиболее адекватно воплотить свое видение мировых проблем. Итак, по своим задачам творчество Достоевскогоэкзистенцально-монологично.
Иного плана вопрос: где и насколько текст произведений представляет собой монолог автора? Достоевский - это не литератор, описывающий обыденную жизнь, а духовидец , переживший трагичность бытия, изображающий то, что мучает его душу. Он был личностью титанической и сложной, раздираемой противоречиями, но ищущей гармонии. Ему, как подлинно гениальному человеку, были ведомы состояния и напряженного духовного подъема, и падения, было открыто как высокое, так и низменное. Его душа побывала и на небесах, и в преисподней. Этот трагический духовный опыт и воплощался в образах героев Достоевского. Поэтому на вопрос: устами кого из героев говорит Достоевский, - можно ответить: каждого в отдельности и всех вместе. Но на другой вопрос: с каким героем идентифицируется позиция автора, - ответить однозначно трудно. Тот или иной герой, порой совершенно неожиданный, может высказывать заветные мысли Достоевского.
Но наиболее близок мировоззрению автора тот анонимный герой, который может иметь персональный образ, но поле души которого шире этой конкретной персоны и вбирает свойства других героев. По аналогии с понятием «лирический герой» в поэзии можно сказать, что в романах Достоевского проживает жизнь некий метафизический герой - воплощение бывших заблуждений, настоящих страданий и поисков, тяги к гармонии самого автора. Метафизический герой может персонифицироваться в одном действующем лице, но оно не является полным его выражением. В этом случае большинство персонажей охвачено горизонтом души метафизического героя и тяготеет к явному центру ее - главному герою.
Роман «Преступление и наказание» потому и производит наиболее целостное впечатление, что его главный герой Раскольников является и метафизическим героем. В других романах образ метафизического героя распылен. Раскольников же является не только главным, но в определенном смысле единственным действующим лицом романа. Все остальные - проекции определенных состояний души Раскольникова. Поскольку автора в первую очередь интересуют динамика и итог душевных превращений, то они изображаются в предельном состоянии. Большинство героев романа представляет собой крайнее выражение и персонификацию идей или чувств Раскольникова. Некоторые герои олицетворяют собой определенные объективные начала: положительные (Соня) либо отрицательные (старуха), воздействующие на Раскольникова как извне, так и через его рассудок или сердце.
Главная проблема творчества Достоевского - природа и происхождение зла в человеке, одержимость духами зла. Достоевский описывает столкновение добра и зла в судьбе и душе человека. Поэтому его романы изображают более метафизические, чем эмпирические реалии. Наиболее идеологический роман «Бесы» в этом измерении оказывается наиболее полемически-эмпирическим произведением зрелого периода творчества писателя. Так как в нем проблемы выражаются в социальных, психологических и бытовых проекциях, то описание выглядит наиболее приближенным к реальной жизни. Отсюда наличие, более чем где-либо, конкретных исторических событий и фактов, злободневность и актуальность романа. Вместе с тем, в «Бесах» духи зла выступают как обнаженные, абстрактные, хотя носителями их могут быть конкретные персонажи; отсюда некоторая рационалистичность «Бесов». Достоевскому было необходимо высказаться в такой форме, чтобы самому сполна осознать вопрос, сформулировать некоторые актуальные проблемы и быть при этом услышанным современниками. В «Бесах» писатель напрямую высказал то, что пережито и опознано им в «Преступлении и наказании». Это, в свою очередь, было подготовкой для непосредственной проповеди в «Дневнике писателя». В романе же «Преступление и наказание» Достоевский рассматривает проблему зла на уровне метафизической психологии . Здесь его образы приобретают наибольшую художественную пронзительность и емкость. Они персоналистически полнее, чем в «Бесах». «Преступление и наказание» является наиболее целостным и законченным произведением Достоевского - и в духовной проблематике, и эстетически. В последующих произведениях писатель углублял и детализировал смыслы, которые были выявлены в романе «Преступление и наказание».
Основные вопросы темы зла в романе следующие.
При каких обстоятельствах и в каких состояниях человек одержим духами зла? Какова феноменология - формы явления зла? Это проблема преступления .
Что происходит с душой человека, породившего злую идею и поработившегося ею? Как злые духи актуализируются - становятся действительными, существуют и проявляются в жизни, какова их сущность в предельном выражении? Это проблема наказания .
Каков путь изживания зла и духовного оздоровления? Это проблема искупления и воскресения .
Обстоятельства и состояния человека, одержимого духами зла, раскрывает фабула - сюжетная основа, расстановка лиц и событий романа. Раскольников вырос в здоровой семье с традиционным укладом, среди любимых и любящих его людей. Но вне семьи он оказывается выпавшим из органичного жизненного уклада. Его внутренний облик формируется вне традиций и преданий, которые могли бы взрастить здоровые начала души. Во взрослой жизни у Раскольникова оказались оборванными связи с тем, что Достоевский называет землею, почвой. Новой же почвы герой обрести не смог: оказавшись за пределами традиционной культуры, душа его не смогла привиться к чуждой искусственной цивилизации, которая, по Достоевскому, противостоит органике земли . Раскольников не мог найти себя ни в рационализированной, секуляризированной - обмирщенной, отторгнутой от религиозных основ учености, ни в выхолащивающих душу профессиональных занятиях, ни в карьере, возможности для которой мог предоставить Петербург («Насущными делами своими он совсем перестал и не хотел заниматься»). Достоевский писал Каткову, по каким причинам его герой приходит к преступлению: «По легкомыслию, по шаткости в понятиях, поддавшись некоторым странным “недоконченным” идеям, которые носятся в воздухе». Неокрепшая душа вне здорового жизненного уклада попадает в зараженную духовную атмосферу .
Это трагедия не только личная: «Тут дело фантастическое, мрачное, дело современное, нашего времени случай-с, когда помутилось сердце человеческое». Достоевский показывает, что в России рушатся традиционные жизненные основы, разрываются органичные связи между людьми, наступает эпоха безукладья : «У нас в образованном обществе особенно священных преданий ведь нет». Россия, как и герой романа, только вышла из отрочества, еще не успели сформироваться положительные основы жизни, но уже началась полоса разрушения: «Нет оснований нашему обществу, не выжито правил, потому что и жизни не было. Колоссальное потрясение и все прерывается, падает, отрицается, как бы и не существовало. И не внешне лишь, как на Западе, а внутренне, нравственно» (из черновиков к роману «Подросток»). Творчество Достоевского есть «изображение крайнего богохульства и зерна идеи разрушения нашего времени в России, в среде оторвавшейся от действительности молодежи» (из письма к К.П. Победоносцеву).
Разрушающаяся почва заражается носящимися в воздухе ложными идеями. «Не во что верить, не на чем остановиться», - записано в черновых набросках к роману. В образованном обществе утверждалась эгоистическая индивидуалистическая этика, отрицающая национально-исторические и православные традиции. Раскольников соблазняется формой утилитарной морали, утверждающей, что целью человеческих поступков должно быть только личное благополучие, что поведение человека обусловливается разумной пользой. Преступление Раскольникова, считает Достоевский, есть «доведенная до последствий теория разумного эгоизма». В начале формирования господствующей в будущем атеистической материалистической идеологии Достоевский понимает, что торжество так называемого экономического принципа приводит не к всеобщему благоденствию, а к взаимному истреблению.
Известно, что на первоначальные замыслы романа оказывала влияние полемика Достоевского с социалистами. Но затем писатель погружается в исследование метафизических коллизий в душе своего героя. Ибо человек есть создатель ложных идей, и, чтобы понять и объяснить их появление, нужно углубиться, прежде всего, в его душу. Как истинный персоналист, Достоевский обращается к началам мирового бытия: в глубине индивидуального личного бытия вскрываются всеобщие закономерности.
Петербург у Достоевского - это столица современной цивилизации, место концентрации ложных идей, носящихся в воздухе , воплощение искусственности, неорганичности, нездоровья и распада жизни: «Необъяснимым холодом веяло на него всегда от этой великолепной панорамы; духом немым и глухим полна была для него эта пышная картина». Образ Петербурга рисуется с помощью мертвенных, ужасающих деталей, но в целом он крайне призрачен. Это некая ирреальность, наполненная тенями и призраками, какая-то фантасмагория - причудливое нереальное видение, провоцирующее болезненное душевное состояние. В «Подростке» Достоевский писал о пушкинском Германне - духовном брате Раскольникова: «В такое петербургское утро, гнилое, сырое и туманное, дикая мечта какого-нибудь пушкинского Германна из “Пиковой дамы” (колоссальное лицо, необычайный, совершенно петербургский тип - тип из петербургского периода), мне кажется, должна еще более укрепиться». Описанный Достоевским город отображает внутренний мир Раскольникова: и атмосфера, и пейзаж города, и детали его быта являются отражением душевных состояний героя. Горизонты души Раскольникова и души цивилизованного Петербурга почти сливаются. Так очерчивается духовное поле, в котором происходят духовные в своей сути события романа.
Душа метафизического героя находится в нездоровом, горячечном состоянии. «Чрезвычайно жаркое время…», «жара стояла страшная…», - неоднократно напоминает автор об удушающей атмосфере города и внутреннего состояния метафизического героя. «С некоторого времени он был в раздражительном и напряженном состоянии, похожем на ипохондрию» - угнетенное состояние, нездоровая мнительность, навязчивые идеи, сопровождающиеся болезненными ощущениями, в частности жаром. Все это погружает душу в беспросветный мрак. Выпадение из традиционного жизненного уклада приводит к самоизоляции и внутреннему опустошению: «…углубился в себя и уединился от всех… Он решительно ушел от всех, как черепаха в свою скорлупу…», - не только от всех людей, но от всего вообще, от нравственного и разумного.
Герой оказывается в духовной пустоте, сознание его погружается в «подполье». Скорлупа-жилище - образ его душевного пространства: «Это была крошечная клетушка, шагов в шесть длиной, имевшая самый жалкий вид со своими желтенькими, пыльными и всюду отставшими от стены обоями, и до того низкая, что чуть-чуть высокому человеку становилось в ней жутко, и все казалось, что вот-вот стукнешься головой о потолок». Душа Раскольникова неестественно зажата некоей властной силой, она олицетворяется замкнутым и отъединенным от мира темным, мертвенным пространством (жилье Раскольникова сравнивается со шкафом, сундуком и гробом), в котором уже невозможно ощутить себя в полный рост человеческого достоинства (высокому человеку жутко) и в котором способны образоваться только бредовые идеи (желтая каморка ассоциируется с «желтым домом» - домом умалишенных): «А знаешь ли, Соня, что низкие потолки и тесные комнаты душу и ум теснят!». Таково душевное пространство, в котором формируется идея Раскольникова: «…там-то, в углу, в этом-то ужасном шкафу, и созревало все это вот уже более месяца». Не случайно в минуту просветления после получения письма матери «ему стало душно и тесно в этой желтой каморке… Взор и мысль просили простору».
В чем заключалось состояние метафизического героя, предваряющее и подготавливающее преступление? Полное безделье («лежа по целым суткам»)обессмысливает жизнь. Потеряв истинные ориентиры, сознание героя вяло, но неукротимо сосредоточивается на фантазиях: «…молодежь образованная от бездействия перегорает в несбыточных снах и грезах». Достоевский замечает, что человек как существо, предназначенное к творческому созиданию, не способен впасть в полный индифферентизм - равнодушие, безучастность, безразличие. Поле битвы добра и зла - сердца людей, и потому духовная дремотность и апатия не освобождают от драмы бытия. Обезволенная душа рано или поздно порабощается злыми духами. Поначалу невинное, но пустое фантазерство Раскольникова («Так, ради фантазии сам себя тешу; игрушки!») постепенно превращается в преступную мечтательность («безобразная мечта»). Родственность идеи Раскольникова маниловщине обнаруживается в момент, когда Раскольников идет совершать убийство: «Проходя мимо Юсупова сада, он даже очень было занялся мыслию об устройстве высоких фонтанов и о том, как бы они хорошо освежали воздух на всех площадях. Мало-помалу он перешел к убеждению, что если бы распространить Летний сад на все Марсово поле и даже соединить с дворцовым Михайловским садом, то была бы прекрасная и полезнейшая для города вещь». Такого рода фантазирование греховно потому, что поглощает энергию и опустошает душу, искажает сознание, подготавливая почву для патологических и преступных идей: «Давным-давно как зародилась в нем вся эта теперешняя тоска, нарастала, накоплялась и в последнее время созрела и концентрировалась, приняв форму ужасного, дикого и фантастического вопроса, который замучил его сердце и ум, неотразимо требуя разрешения». Больной вопрос формирует некие образы, понятия и установки, которые выходят из-под контроля совести и сознания, развиваются самопроизвольно и в кризисных ситуациях могут реализовываться спонтанно. Раскольников был пустым мечтателем до того, как получил письмо матери, из которого выяснилось, что хроническое безденежье преследует его родных и что сестра приносит себя в жертву ради его будущего. Сама жизнь потребовала действия. Неожиданно для Раскольникова фантастическая идея, которая «месяц назад, и даже вчера еще, она была только мечтой, а теперь… теперь явилась вдруг не мечтой, а в каком-то новом, грозном и совсем незнакомом ему виде, и он вдруг сам сознал это… Ему стукнуло в голову, и потемнело в глазах». Каково же содержание фантазии, заставившей содрогнуться ее создателя?
Постепенно душевные силы Раскольникова концентрируются вокруг идеи, на которой болезненно зафиксировано сознание: «Так бывает у иных мономанов, слишком на чем-нибудь сосредоточившихся». При зарождении идея вполне беззлобна, но в душе, потерявшей органичный строй, лишившейся истинных критериев, она вырастает в чудовищный фантазм - причудливое видение, призрак. Все начинается со стремления посвятить себя какому-либо «полезному» делу. Раскольников - человек незаурядный во всех отношениях, наделен умом, талантом, красотой. Таковым он себя сознает, потому и дело должно быть под стать дремлющим силам - необыкновенное, масштабное. Как и его сверстники-идеалисты, он, наверное, хотел бы осчастливить одним махом если не все человечество, то, во всяком случае, многих людей. Этого можно было бы достичь, распоряжаясь капиталом, который несправедливо и противоестественно сосредоточен в руках людей негодных и никчемных («старушка - зловредная вошь»). Дело за тем, чтобы капитал изъять и распорядиться им по естественной справедливости . Так зарождается вторая ведущая тема в идее героя. Хотя все это еще фантазии, он начинает ощущать себя созидателем, распорядителем, вершителем событий, судеб. Формируется синдром наполеонизма, мания величия.
В записных книжках Достоевский формулирует идею Раскольникова: «Я ли не такой человек, чтобы позволить мерзавцу губить беззащитную слабость. Я вступлюсь. Я хочу вступиться. А для этого власти хочу… Я власть беру, я силу добываю - деньги ли, могущество ль, не для худого. Я счастье несу…». Когда «странная мысль наклевывалась в его голове, как из яйца цыпленок, и очень, очень занимала его», с Раскольниковым происходит «неслучайная случайность» - он слышит в трактире собственную идею: «Я бы эту проклятую старуху убил и ограбил, и уверяю тебя, что без всякого зазору совести!», «…с одной стороны, глупая, бессмысленная, ничтожная, злая, больная старушонка, никому не нужная и, напротив, всем вредная, которая сама не знает, для чего живет, и которая завтра же сама собой умрет… С другой стороны, молодые, свежие силы, пропадающие даром без поддержки, и это тысячами, и это всюду! Сто, тысячу добрых дел и начинаний, которые можно устроить и поправить на старухины деньги, обреченные в монастырь! Сотни, тысячи, может быть, существований, направленных на дорогу; десятки семейств, спасенных от нищеты, от разложения, от гибели, от разврата, от венерических больниц, - и все это на ее деньги. Убей ее и возьми ее деньги, с тем чтобы с их помощью посвятить потом себя на служение всему человечеству и общему делу: как ты думаешь, не загладится ли одно крошечное преступленьице тысячами добрых дел? За одну жизнь - тысячи жизней, спасенных от гниения и разложения. Одна смерть и сто жизней взамен - да ведь тут арифметика?.. Конечно, все это были самые обыкновенные и самые частые, не раз уж слышанные им, в других только формах и на другие темы, молодые разговоры и мысли».
Раньше летающие в воздухе абсурдные мысли не задевали здоровую душу. Теперь же в распаленном воображении героя они получают болезненный отзвук, как ядовитые трихины поражают потерявшую нравственный иммунитет душу: «Этот ничтожный трактирный разговор имел чрезвычайное на него влияние при дальнейшем развитии дела: как будто действительно было тут какое-то предопределение, указание». Так зародившаяся ложная идея блага порождает в воспаленной душе чувство ложногомессианства - ощущения себя спасителем. Маниакальное самовозвеличение приводит к крайним выводам: на сверхчеловека не распространяются нравственные законы, существующие для инфантильных душ большинства, низменной толпы. «Трепещущая тварь» должна повиноваться избранному меньшинству - власть имущим. Сильная личность стоит вне закона. Она выше обыденной морали, как бы за пределами добра и зла. Поэтому истинное величие в том, чтобы стремиться к заданной цели, отменяя нравственные предписания и заглушая голос совести, как рецидив слабости и посредственности.
Достоевский показывает психологию формирования мании величия. Силы, умения, таланты есть, идея, цель ясны - это уже признак величия для Раскольникова. Чтобы утвердиться на этой «высоте», необходимо не только найти конкретный путь достижения цели (дело техники рассудка), но и решиться на его осуществление. Поступок во имя идеи оказывается решающей гранью, выводящей из области фантазий в область реальности. Он же будет проверкой и критерием истинности позиции, утверждением собственного величия. Так средство к достижению цели подменяет цель. Не случайно Раскольников не знает, как распорядиться похищенным богатством. Достоевский вскрывает внутреннюю диалектику прельщения : не может быть нравственно оправдано достижение благих целей порочными средствами, которые неизбежно становятся самоцелью, вытесняя самые благие побуждения.
Перед решающей гранью Раскольников цепенеет в нерешительности. В этом и состоит проблема пре-ступления - переступления через незыблемые Божии законы («Божья правда, земной закон», по Достоевскому), в основе которых свобода, суверенность и неприкосновенность человеческой личности. Человек - венец творения Божьего и сотворец Богу, он не может быть средством к достижению даже самых высоких целей. Можно ли для счастья многих убить одну невинную душу? Это проблема оправдания Божьего творения. Остатки нравственного чувства не позволяют Раскольникову поставить этот вопрос в законченной и обнаженной форме. Он пытается сбежать от угрызений совести, придавая проблеме оправдывающую форму: можно ли для счастья многих лишить жизни одного ничтожного человека («зловредную вошь»).
Душа Раскольникова в период, предшествующий преступлению, в смятении и борении. Оттесняются ее положительные качества, и обнажаются низменные стремления. Фантасмагорическая идея постепенно захватывает его полностью. Она подавляет всплеск совести во сне о лошади, где Раскольников открывается как человек по природе добрый, способный к состраданию. Через сон Раскольников ощутил убийство не как алгебраический знак, а как реально пролитую кровь: «Боже, - воскликнул он, - да неужели ж, неужели ж я в самом деле возьму топор, стану бить по голове, размозжу ей череп… буду скользить в липкой, теплой крови, взламывать замок, красть и дрожать… прятаться, весь залитый кровью… с топором… Господи, неужели?.. Да что же это я!.. Ведь я знал же, что я этого не вынесу, так чего ж я до сих пор себя мучил?». Он отказывается от своего замысла: «Господи! Ведь я все же равно не решусь!.. Господи!.. покажи мне путь мой, а я отрекусь от этой проклятой… мечты моей».И даже переживает эйфорию отрезвления: «Свобода, свобода! Он свободен теперь от этих чар, от колдовства, обаяния, от наваждения!». Но всплеск совести и жажда освобождения от инфернального наваждения не были волево утверждены, поэтому опрокидываются волной мутных страстей. Подавленное нравственное чувство проявляется только в мгновения отрезвления: «О Боже! как это все отвратительно! И неужели, неужели я… нет, это вздор, это нелепость! - прибавил он решительно. - И неужели такой ужас мог прийти мне в голову? На какую грязь способно, однако, мое сердце! Главное: грязно, пакостно, гадко, гадко!.. И я целый месяц…». Но всплески совести постепенно затухают. Остатки разума и совести сказываются только в страхе и нерешительности, оттягивавших преступление. Раскольников чувствовал, что за этим шагом - бездна. Но идея уже неотвратимо захватывает все его существо.
Какую альтернативу может предложить немощный, человеческий разум? Воплощением рассудочно-рациональной стороны Раскольникова является Разум- ихин. В решительный момент, когда идея становилась повелением, Раскольникова бросило к нему. Но он остановил себя: «Что ж, неужели я все дело хотел поправить одним Разумихиным и всему исход нашел в Разумихине?». Доводы рассудка оттесняются, теперь рассудок призван разве что легализовать преступление: «Я к нему… на другой день после того пойду». И Разумихин - первый, с кем общается Раскольников после преступления. Но контакта у них не возникает. В обыденной ситуации Разумихин мог бы олицетворять реальный выход из положения. Разумихин - здоровый, целостный, но приземленный, рассудочный человек. У него не возникает многих вопросов, потому что его сознание поверхностно и тем самым вне проблем. Раскольников же личность усложненная, углубленная и утонченная. Он сознает ущербную частичность и искусственность мира ученого-специалиста и мещанскую ограниченность его жизни. И он отвергает рассудочную альтернативу. Спасительной же целостной идеи его душа не может породить, ибо расколоты основания жизни.
Образ Раскольникова по мере приближения к моменту преступления обезличивается. Воля парализуется. Он вроде и не принимал «окончательного решения», ибо, «несмотря на всю мучительную внутреннюю борьбу свою, он никогда ни на одно мгновение не мог уверовать в исполнимость своих замыслов во все это время». Но преступление и состоит в том, что в решительный момент он не противопоставил захватывающей его маниакальной идее совестливого волевого акта. Человек призван к непрерывному творческому напряжению, и чем ответственнее ситуации - тем более. Отказываясь от свободы и ответственности решения, проявляя безволие, герой тем самым внутренне уже преступает черту, выходит из области личностного бытия и попадает под власть натуралистических сил, роковых и фатальных стихий. Проявляя себя как ответственная свободная личность, человек пролагает свой неповторимый путь, преодолевая мировую эмпирию, ибо свободное творческое самоопределение выводит из-под власти сил мира сего. Напротив, обезличенный маньяк выпадает в безличностное измерение и оказывается марионеткой злых сил, роковым образом влекущих к гибели. «Ни о чем он не рассуждал и совершенно не мог рассуждать; но всем существом своим вдруг почувствовал, что нет у него более ни свободы рассудка, ни воли…». Окончательное решение Раскольников принимает совершенно безвольно . Воспаленное сознание воспринимает идею уже не как фантазию, а как императив. С этого момента он не властен над собой, попадает в руки фатальной предопределенности: «Последний же день, так нечаянно наступивший и все разом порешивший, подействовал на него почти совсем механически : как будто его кто-то взял за руку и потянул за собой, неотразимо,слепо , с неестественною силой, без возражений. Точно он попал клочком одежды вколесо машины, и его начало в нее втягивать».
(Продолжение следует.)
Слепой и зрячий в невежестве - оба одинаково «слепы» и равно бесполезны.
Спорят, что лучше - капитализм или социализм. По существу обсуждается, что в человеке лучше - эгоизм или альтруизм, скупость или щедрость, зло или добро. Так, что же лучше - хороший человек или плохой?
Ответ, единодушно не вызывает сомнений.
«Полем битвы - Он избрал сердца наши»…
Капитализм, это выраженная в физический мир черта характера личности - эгоизм. Так же, как и социализм - это отображенный в материальный мир предметов, альтруизм личности. Рабовладение и феодализм - неограниченный деспотизм.
Деспотизм, эгоизм, альтруизм (рабовладение, феодализм, капитализм, социализм, коммунизм) - внутри нас. Все они одновременно присутствует во всяком человеке. Они есть во всех - в разных пропорциях. Если же черты явно и не проявлены, это не значит, что их нет - просто, они находятся в подавленном зародышевом, не раскрытом состоянии.
Всякая наша черта характера предметно выражается в мире материи и межличностных отношениях. Щедрость, жадность, смелость, хвастовство, глупость, черствость и т.д. (Установлена и прямая связь черт характера с болезнями). Если посмотреть на человека внимательно, то все проявления характера можно увидеть в созданном им окружающем материальном мире предметов. Каких качеств в личности больше, тем он в жизни и само представлен. Вспомнить, например, персонажей Н.В. Гоголя в «Мёртвых душах»: - Коробочку, Манилова, Плюшкина и других. (Иному человеку, стоит, только заговорить, как о нём всё сразу становится ясно).
Таким образом. - Не существует обособленно капитализма и социализма. Они порождение ума человека и «живут» одновременно вместе - в одном человеке.
Абсолютно во всех государствах, (а ещё раньше и в первобытном племени) - есть и был социализм. Во всяком обществе в разной степени присутствует бесплатная помощь, и забота. Также в обществе, есть и был капитализм, выражением которого сегодня являются деньги. А, в доисторическом мире роль денег выполнял любой необходимый для жизни предмет (рубило, скребок, кусок мяса, пригоршня воды и прочее).
Спор политиков о лучшем строе - это «война добра и зла» в сознании человека.
Каждый спорящий, придерживается ценностей - согласно достигнутого уровня индивидуального развития. Подобно, ослик выбирает для себя морковку, а человек - человеческое (всякому своё).
Обнаружив, что «корень» капитализма (эгоизма) и социализма (альтруизма) «растёт» из человека, то среди здоровых и разумных людей, можно положить конец политическим спорам и войнам. Сложив силы «слепого и зрячего невежественного» воедино, можно перенести растраченную энергию конфликта на проблемы развития личности .
В конечном счёте, на изменение существующего общества и мира - в лучшую сторону!
Всякий человек, в течение дня, одновременно бессчётное число раз может быть стяжателем и проявлять заботу о других (хотя бы это действие происходило и в семье). Что свидетельствует о гибкости, подвижности, изменчивости ума, о способности мыслью менять себя и окружающий материальный мир.
Если посмотреть шире - то, в человеке есть всё. В нём сосредоточено от всех черт характера его предков. Все одинаковы по структуре генетического кода и различаются проявленной активностью генов. В сумме выраженность всех черт личности - называется характером.
…«Он взял семьдесят две краски, Он бросил их в чан. Он вынул их все белыми и сказал: - Подобно этому, воистину, Сын человека пришёл»… (От Филиппа, 54).
Состоящий из «семидесяти двух красок», человек пришёл в жизнь. Осознавший себя Человек - по своему знанию и желанию, может стать «белым» (чистым).
Количество социализма (сумма социальных благ) в государстве - определяется уровнем морально-нравственного развития общества. Если уровень высокий, то и заботы больше. Чем выше сознание, тем - социализма больше. С демократическими переменами, количество социализма повышается, а с диктатурой, самодержавием, деспотизмом - снижается.
Нравственно низкий уровень общества, никогда не способен построить более развитое социальное государство. Подобно - и обезьяна не сделает ничего человеческого.
Есть восточная поговорка: - «Новое седло и золотая уздечка - не сделает из осла арабского скакуна». Если упряжь с одного осла перевесить на другого осла - то, жеребца, тоже не получится.
Одни материальные перемены в стране бесполезны. - Требуется, упреждающее морально-нравственное развитие.
Истине в доказательство служит всё, в том числе и противоположность. - Чтобы сотворить «зверя», надо вытравить из людей человеческое, лишив их возможности думать и свободно получать знания. Тогда, рождённый зверь (в награду) уничтожит своих слепых и бездарных родителей.
Политики, фокусники, мошенники, чтобы завладеть: имуществом, свободой, любовью, симпатией, доверием, властью или ещё чем другим - отвлекают внимание. Отвлеченный на «ложную подставку», разум людей, ослеплён и не способен правильно видеть суть вещей.
Хорошо знать, что всё, что есть внутри нас, то воплощается во внешнее.
Каждый может быть своей противоположностью - эгоистом или альтруистом. Английская поговорка подтверждает: - «наши недостатки - это продолжение наших достоинств». Люди, под внешним доминирующим воздействием в одно мгновение, легко способны изменяться в любую сторону - хорошую и плохую.
При низком уровне развития сознания в обществе, свободы слова и институтов демократии - от личности, во главе государства, в полной мере зависит, будет ли такое общество развиваться или деградировать.
Насколько хорошо человек себя знает - зависит возможность внешнего воздействия на его разум и манипулирование его сознанием.
«Наши слабости нам уже не вредят, когда мы их знаем». (XVIII век, немецкий учёный, публицист Георг Лихтенберг).
Знающие, могут разобраться и в себе, и в других. Они способны выбирать лучшее для себя - лучшего президента, правительство, они в силах ограничивать плохое. … «И познаете истину, и истина сделает вас свободными" (От Иоанна: 8 - 32).